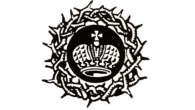Санкт-Петербург, 7 февраля – Наша Держава. Судьба дала мне возможность увидеть собственными глазами ход государственной и народной жизни в Советском Союзе. В 1948 г. я был арестован в Вене советскими представителями и увезён в Союз, где меня продержали больше восьми лет в разных концлагерях. Конечно, в тюрьмах и лагерях нельзя было наблюдать за всем, происходившим в стране, так, как находясь на свободе, но за всё моё пребывание там, лагери были настолько переполнены представителями всех слоёв населения и всех народностей Союза, и эти массы так непрерывно пополнялись, что общение с ними можно в основном считать общением с самим народом. Непосредственное же соприкосновение со свободным народом, хотя короткое и ограниченное время, со своей стороны до некоторой степени пополнило впечатления и наблюдения во время заключения.
Мои воспоминания написаны в биографически – хронологическом порядке, и я привожу только то, что я сам лично видел и пережил. Это не теоретический трактат и не полемическая статья, а перечень подлинных фактов и характерных явлений, которые говорят сами за себя.
Когда 20 сентября 1948 г., в Вене, я попал в руки советской контр – разведки, меня увезли в главную квартиру советских оккупационных войск в Австрии, которая находилась в Бадене, курорте в 26 километрах от Вены. Там меня привели в комнату для подследственных арестантов и оставили под надзором вооружённого солдата. К полуночи пришёл майор и приказал мне до рассвета написать мою биографию. Около восьми часов утра он пришёл опять и, прочитав то, что я написал, заявил мне, что ему поручено произвести следствие относительно моей антисоветской деятельности и что по приказу советского прокурора я остаюсь под арестом.
Я был очень удивлён, что лишь теперь, в 1948 г., когда мне было уже почти 73 года, начинается следствие по поводу моей работы на Украине в 1917 – 1919 г.г., тем более, что я уже стал австрийским подданным. Но эти мои замечания следователя не интересовали, и допрос продолжался почти до вечера, причём еды мне никакой не дали. Вечером следователь лично отвёл меня в дом напротив, где была тюрьма, и передал фельдфебелю, который основательно обыскал меня, взял всё, что было в карманах, отрезал все пуговицы и, по приказанию следователя, повёл меня в одиночную камеру №1. Мы пошли в подвал, открылась тяжёлая железная дверь, и я очутился один в довольно большой, совершенно пустой комнате с бетонным полом, покрытым на несколько сантиметров водой; с потолка медленно и непрерывно капала вода. Хотя я был очень утомлён допросом и уже второй день ничего не ел, я решил всю ночь ходить взад и вперёд, так как нигде не было сухого места, где можно было бы сесть или лечь. Но этот план мне не удался; как только раздался отбой – сигнал ложиться спать – в двери открылось маленькое окошечко и тюремщик грубо приказал мне лечь. – Да где же мне лечь? – спросил я. – Там, где стоишь, – с хохотом ответил тюремщик. – Дай мне хоть соломы под голову, – попросил я. – А ты подложи свою шляпу, а теперь довольно разговаривать.
Таким образом, я провёл вторую ночь под арестом, лежа в воде, подложив локоть под голову и без сна. Утром меня повели к следователю, который старался заставить меня признаться в планах и данных, которые мне были совершенно неизвестны; очевидно, он хотел найти ещё какие – нибудь причины для обоснования моего ареста, кроме моей деятельности 30 лет тому назад, что ему не удалось. На этот раз допрос кончился в полдень, и мне после двух дней без еды дали наконец котелок супу и кусок хлеба. Затем меня отвели в другую одиночную камеру, также совершенно пустую, но без воды и с деревянным полом, окно было без стёкол, но с толстой решёткой. На следующий день был опять допрос, и так каждый день до 6 – го декабря. Я должен сказать, что методы моего допроса не носили физически насильственного характера, в отличие от методов следователей, о которых мне позже рассказывали другие заключённые и о которых свидетельствовали синяки, открытые раны и поломанные кости. Застенков, о которых многие говорили, я не видел.
Через несколько дней в мою камеру привели других арестантов, и под конец нас было шесть человек в таком маленьком помещении, что ночью мы могли лежать на полу только плотно один рядом с другим. За всё время заключения в Бадене, с сентября по декабрь, нас ни разу не вывели на свежий воздух, и поэтому окно без стекла было даже приятно, пока не наступили холода. Мы также ни разу не могли сменить бельё или одежду. Как я был одет при аресте, по летнему, так меня и повезли дальше. В те дни, когда была баня, наше бельё и одежду брали уже утром для дезинфекции, и мы иногда должны были сидеть до полудня в костюме Адама, дожидаясь нашей очереди, а затем нас вели по длинному коридору в подвал, где было нечто вроде бани, и разрешали помыться 15 минут.
5 – го декабря мой следователь сообщил мне, что допросы не дали материала, чтобы предать меня военному суду, и что для дальнейшего следствия я буду отправлен в Киев. Меня посадили в “чёрного ворона” и отвезли в местечко Нейнкирхен, в 60 километрах от Вены, где составлялись этапы для отправки в Союз. Через несколько дней я был присоединён к транспорту арестантов, который шёл через Будапешт и Чап на Львов.
До Чапа мы ехали в итальянских вагонах, которые были внутри разделены проволочной сеткой на три части: в середине находились четыре вооружённых солдата, а место для арестантов было с каждой стороны разделено нарами, так что нас там помещалось по десять человек внизу и по десять наверху; можно было только сидеть, а ночью лежать, вставать и говорить запрещалось. Лежат надо было лицом к часовым, а для того, чтобы повернуться на другой бок, надо было спрашивать разрешение. Еда состояла из хлеба и селёдок. В вагоне было очень холодно, а мне при выезде выдали только совсем старую шинель; в пути я отморозил себе ноги. Во время безсонных ночей я прислушивался к разговорам часовых; эти солдаты ничего не имели общего с прежним, так хорошо мне знакомым типом солдата, у них не только были совсем другие интересы и заботы, но и язык их был совсем иной и совершенно безсмысленно переполнен ругательствами и непристойными выражениями. Можно было подумать, что это случайно в этой маленькой группе, но позже в лагерях и в поездах я наблюдал тот же грубый язык, даже среди детей.
Таким образом мы ехали целую неделю до Чапа, где нас пересадили в русские вагоны для перевозки скота. В нашем вагоне было 80 человек, но не было надзирателей и можно было себя чувствовать несколько свободнее, хотя и производились постоянные поверки.
Через Карпаты мы ехали только днём, а ночью стояли на станциях, так как в то время на Украине шла повстанческая борьба и бывали случаи, что повстанческие организации нападали на поезда и освобождали арестантов. Ночью поезда были окружены солдатами, которые всё время стреляли для отпугивания предполагаемых нападающих.
Во Львове наш этап был размещён по баракам, уже переполненным пленными и так называемыми “добровольными переселенцами”. Это были семьи, члены которых находились в ссылке, и “добровольно” выбранные ими места для переселения были или степи Казахстана, или Сибирь. В бараках были также молодые парни, частью почти ещё дети, которые “добровольно” ехали из Венгрии на работу в шахты Донбасса.
Через несколько дней наш этап был сформирован и направлен дальше на Киев, куда мы приехали через 36 часов. Там нас посадили в “чёрных воронов” и начали развозить по тюрьмам. Меня высадили в так называемой внутренней тюрьме МВД на улице Короленко и отвели в одиночную камеру в подвале. Дневной свет туда не проникал, но зато день и ночь горела сильная электрическая лампа, и кровать была нарочно поставлена так, чтобы этот сильный свет бил в лицо спящему, руки надо было оставлять поверх одеяла, несмотря на сильный холод. Режим был очень суровый, кругом была абсолютная тишина, тюремщики говорили только шёпотом и каждые пять минут заглядывали в оконце в двери.
Днём можно было сидеть, но прислоняться к стене запрещалось, ходить же по камере я не мог из – за больны, отморожены ног и поэтому должен был сидеть, как статуя, на кровати. Там меня подержали около двух недель, в так называемом карантине, тюремный врач приходил каждый день лечить мои ноги.
Затем меня перевели в другую камеру, где уже было два арестанта. Каждую ночь нас вели на допрос. После отбоя, когда мы только что собирались спать, открывалась дверь, шёпотом произносилась первая будва фамилии, надо было наскоро одеваться и по команде вооружённого солдата идти к следователю.
Также и мой следователь в Киеве не применял ко мне никаких физически насильственных действий; у него был другой метод: в течение целых месяцев он почти каждую ночь заставлял меня сидеть в своей канцелярии до пяти часов утра, при этом он часто совсем мной не занимался, читал газеты, принимал подчинённых и т.д. В конце концов я так ослабел от недостатка сна, что почти не мог ходить. Тогда следователь разрешил мне спать два часа днём, но это было больше теоретически. так как часто в это время нас вели на “прогулку”: для этого был специальный двор, окружённый высокими стенами по которому надо было молча ходить один за другим, наверху был помост, на котором стоял вооружённый тюремщик. Во время безконечного сидения по ночам в канцелярии моего следователя я мог убедиться, что с другими так “хорошо” не обращались, как со мной; из других помещений часто слышались крики и стоны, иногда женских голосов, мои товарищи по заключению много раз возвращались с допросов с синяками на лице, а один из них совершенно потерял слух от ударов по голове. В противоположность следователям тюремный персонал держал себя корректно, врачи были объективны и даже любезны. Продовольствие было много лучше, чем в Баденской тюрьме, и даже было удовольствие, а именно – пользование прекрасной тюремной библиотекой, в которой даже было несколько библиографических редкостей.
В нашей камере нам случайно удалось узнать интересную статистическую цифру: один из арестантов демонстративно не исполнил приказаний тюремщика, тот пожаловался начальству, и к нам в камеру пришёл полковник. В большом волнении он начал выкрикивать угрозы и, между прочим, заявил нам: “Не думайте, что мы не сможем укротить вас, у нас таких, как вы, тридцать миллионов в лагерях, и мы находим средства держать их в очень спокойном состоянии”. Такое замечание официального и хорошо осведомлённого лица заставляет много подумать на тему гуманности.
Несмотря на все свои старания, мой следователь не мог найти никакого материала против меня, кроме моей деятельности на Украине в 1917 – 1919 г.г.; моё дело было отправлено в Москву. По прекращении допросов я несколько оправился, мои товарищи по заключению всё время менялись – одних предавали военному суду, других отправляли на сборный пункт этапов в Сибирь, а освободившиеся места быстро пополнялись новыми арестантами. Скоро и меня отправили на сборный пункт в Лукьяновку. Там я попал в большую камеру, где было больше тридцати человек, главным образом евреи из интеллигентных профессий. Они уже раз отбыли наказания, были освобождены и опять арестованы по тому же самому обвинению. Позже я встречал в лагерях много таких арестантов, приговорённых второй раз за то же самое “преступление”. В лагерях также много было людей, которые действительно добровольно вернулись на родину, поверив перспективам и обещаниям, которыми их заманили. Их или арестовывали сейчас же по вступлении на советскую территорию, или оставляли на свободе, а затем через год или позже всё равно арестовывали, обвиняя их под каким – нибудь предлогом в шпионаже. Среди безчисленного количества таких “преступников” я видел разных инородцев, которые ни слова не знали по – русски, много китайцев, бежавших при наступлении японцев и обвиняемых в шпионаже для японских военных властей, эскимосов, тувинцев – о сих последних я раньше даже не знал. Всех их осуждали на судебном процессе, проводимом весьма быстро и только для виду, иногда даже допускался официальный защитник, но его речь скорее была обвинением, чем защитой.
В Лукьяновке режим был несколько легче, можно было в любое время спать и разговаривать друг с другом. 17 июля 1949 г. меня неожиданно повели в канцелярию тюрьмы; находящийся там подполковник дал мне маленькую бумажку и приказал прочитать и подписать. Это был приговор, так называемого Особого Совещания, коллегии из трёх лиц, уполномоченных московскими властями назначать наказания без суда, которые никто не имел права изменять: решения были безапелляционны. Приговор был на 25 лет заключения в ИТЛ, т.е. в исправительно – трудовых лагерях, за что – не было обозначено ни одним словом, а в рубрике “гражданство” вместо австрийского стояло “безподданный”. В моём 73 – летнем возрасте это был просто смертный приговор; на моё замечание, что в отношении подданства графа заполнена неправильно, подполковник резко ответил, что Совещание не ошибается. Мне не оставалось ничего более, как поблагодарить за то, что мне приказывают дожить до ста лет. На это подполковник уже добродушно решил меня утешить и сказал: “Да вы не безпокойтесь, приговор не имеет для вас практического значения, больше пяти лет вы всё равно в лагерях не выдержите”.
Обогащённый этими новыми сведениями о жизни в Советском Союзе, я в мрачном настроении вернулся в мою камеру. Теперь я уже был осужденный преступник, без прав, без надежды, даже моё австрийское подданство было совершенно беззаконно от меня отнято, несмотря на то, что в Австрии было всеми признанное правительство. Мне только оставалось ждать этапа в ссылку.
В августе меня отправили в Москву на сборный пункт для этапов. Этапы составлялись там быстро и секретно. Ночью, как всегда в Союзе, нас вызвали по фамилиям, вывели в коридор тюрьмы, солдаты азиатского типа заставили нас совершенно раздеться и начали обыскивать, выкидывая на пол содержимое наших мешков и чемоданов. Затем, приказав нам как можно скорее всё уложить, нас вывели на тюремный двор и оставили там стоять до утра. Рано утром нас ещё несколько раз пересчитали и повели к вагонам (ветка железной дороги была проведена до тюрьмы); по обеим сторонам стояли шпалеры солдат с автоматами наготове и с большим количеством собак на привязи. Позади солдат стояла толпа любопытных, которые провожали нас криками: “Фашисты, враги народа, лакеи капиталистов” и т.д. С этими напутствиями нас погрузили в вагоны для скота, по 80 до 100 человек в каждый, и дальше всё пошло, как обычно, включая постоянные поверки. Куда нас везли, нам не было сказано, но иногда в щели вагона мы видели названия станций и знали, что мы по дороге в Сибирь.
Езда тянулась более трёх недель и, наконец, нас привезли в новооснованный маленький город Тайшет, находящийся приблизительно в середине между Красноярском и Иркутском на сибирской магистрали Москва – Владивосток. От станции до лагеря мы должны были идти пешком около 5 километров. Конвой принял нас от железнодорожной охраны, и тут мы в первый раз услыхали команду, которую потом слышали каждый день: “Становись по пяти, берись за руки, шаг в сторону – стреляю без предупреждения”.
Тайшет был главным сборным пунктом для этапов в так называемые спецлагеря с особенно суровым режимом. Несколько сот лагерей вдоль железной дороги Тайшет – Лена относились к этой категории и подчинялись центральному управлению в Тайшете. Хотя в приговоре было обозначено, что я – заключённый в исправительно – трудовых лагерях, где порядок был совсем другой, чем в особых закрытых режимных лагерях тайшетского района, меня оставили в Тайшете.
Так как в то время ссылка в Сибирь шла очень напряжённым ходом и поезд за поездом день и ночь подвозили на сибирскую магистраль всё новые и новые контингенты арестантов, тайшетский сборный лагерь был переполнен. Наш этап поместили в столовой, и я спал на столе, а большая часть людей лежала на грязном полу. Там я пробыл больше двух месяцев; наступила осень, и нас посылали бригадами по 25 – 30 человек, как даровых рабочих, копать картофель на полях, а при возвращении в лагерь вечером обыскивали и отнимали каждую найденную картошку. Пока стояла хорошая погода, было не так плохо работать, а когда начались дожди, стало тяжело. Хотя нас перевели из столовой в барак, но печей не топили, одеял у нас не было, и наша одежда служила нам и одеялом, и матрацем, и подушкой; приходилось не только спать во всём мокром, но и утром выходить в таком виде снова на работу. Люди начали хворать. Вскоре меня перевели на заготовку топлива; в моём возрасте и после долгих месяцев тюрьмы и этапов это была очень тяжёлая работа.
Из воспоминаний А.П. Грекова
(“Вестник первопоходника” №57/58, июнь – июль 1966 г., с. 48 – 52)
(“Вестник первопоходника” №57/58, июнь – июль 1966 г., с. 48 – 52)