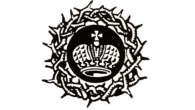Москва, 20 марта – Наша Держава (Андрей Белоголовый). Эта служба дожидалась Андрея с III курса, могла и ещё несколько обождать, но была неизбежна. Накануне его поступления в прогимназию, в год 1874-й, настоянием военного министра профессора графа Д.А.Милютина в России была введена всесословная (всеобщая) воинская повинность. Ежегодная численность призывников – 450 тысяч – сразу в несколько раз превысила потребность армии в новобранцах – 150 тысяч; что позволило допустить широкую систему льгот и отсрочек. Всем студентам давалась отсрочка до окончания обучения, однако не дальше 27 лет.
Известно: русская армия постоянно испытывала нехватку офицерского пополнения, острейшую по офицерам запаса (возраст, здоровье). Удивляться не приходится – военная служба по сравнению с гражданской или со службой частному капиталу преимуществ, можно сказать, не давала, а лишь утеснения. Чтобы подтолкнуть образованных молодых людей к достижению офицерского звания, и была проведена весьма разумная мера: в строгий военный строй допущен вольноопределяющийся – доброволец, поступивший на действительную службу рядовым (нижним чином) по окончании высшего или среднего учебного заведения.
Срок службы вольноопределяющимся сокращался до 1 года, (на флоте до двух лет). Они могли содержать себя на службе за свой счёт и тогда им разрешалось стоять на частных квартирах. Казённокоштным, живущим в казармах, по возможности выделялось отдельное помещение, им дозволялось кормиться артельно, прикупая провизию. Форма одежды вольноопределяющихся отличалась от рядового только трёхцветной шнуровой обшивкой (кантом) на погонах. Обязанности строевой службы они несли наравне с остальными нижними чинами, кроме нарядов на хозработы. Врачи, ветеринары и фельдшера могли отбывать воинскую повинность по своим специальностям.
Через шесть месяцев службы вольноопределяющийся проходил испытания на унтер-офицерский (сержантский) чин. Перед увольнением обязан был держать экзамен на чин прапорщика (мл. лейтенанта) запаса; на флоте – мичмана действительной службы.
Meдики и ветеринары принимались обществом офицеров своих частей с первых дней службы, а ближе к увольнению были вхожи в офицерские собрания все вольноопределяющиеся. Кадровые офицеры окрестили их “вольнопёрами” – насмешливо как бы, а с некоторой всё же ласкою и вздохом.
Наконец, в 1887 году при Московском пехотном юнкерском училище создаётся одногодичный курс “для молодых людей высшего образования… с целью дать им возможность, попутно с исполнением воинской повинности, получить военное образование и достичь офицерского звания” – подпоручика (лейтенанта), правда, не запаса, а строевого. К тому времени высшее образование в России получало не так уж мало сыновей крестьян, ещё более – городских мещан, купцов, ремесленников, довольно много – из духовного сословия и казачества; дворянином был далеко не каждый второй среди студенчества, да и дворянство у большинства было не старинное-родовитое, а по выслуге отцов. Служба царская, и военная, и гражданская, открывала прямую возможность дворянство выслужить: штабс-капитан и флотский лейтенант получали дворянство личное, а с чином полковника и каперанга оно становилось потомственным. Тоже и у соответственных чинов гражданской государственной службы.
Поступать в Московское пехотное дозволялось исключительно из войсковых частей и забота вольноопределяющихся была, куда именно определяться. А чтобы не отпугнуть вузовскую молодежь перспективою пожизненной службы в войсках, изобрели льготу, по видимости не нарушающую строгий государственный регламент, то есть как бы не существующую. Выпускники одногодичного курса имели право на выпуск в те армейские части, из которых пришли в училище, хотя бы в тех частях и не было офицерских вакансий. И откуда их, как сверхштатных, могли бы тут же, при их желании, уволить в запас. Понятно, в частях, удачно расквартированных по большим городам, офицерские вакансии не пустовали, замещаясь кадровыми военными, кому армия – на всю жизнь. В Москве, в Кремлёвских и Спасских казармах десятилетиями стоял Екатеринославский лейб-гренадерский полк.
Проваландаться год в этом или ином полку, рассчитывая в будущем неизвестно на что, или употребить годовую отсрочку судьбы на получение новых знаний – у Андрея не могло быть долгих сомнений.
Август 1888 года. Приказом по 1-й гренадерской дивизии Снесарев Андрей зачислен на службу рядовым из вольноопределяющихся 1-го разряда в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский Его Величества полк. Из полка рядовой Снесарев немедля командируется в Московское пехотное юнкерское училище “для прохождения курса наук”. За родным полком Андрей числился на сей раз едва неделю. Присягу, должно быть, принял, присяжный лист подписал, а к службе едва ли являлся и обмундирован, вероятнее всего, не был. Из войск в училища полагалось направлять в мундирах третьего срока носки, для неслужилых то был бы хлам с чужого плеча, могли взбрыкнуть. Течения долгой новой жизни начинались для Андрея в училище, где через год ему и присягать снова предстояло, уже как офицеру.
Московское пехотное юнкерское (с 1897 года Московское военное, с 1906 – Алексеевское военное) находилось в Лефортове, за речкой Яузой, занимая часть Красных казарм, большое старинное двухэтажное здание. Тесными окнами из толщи стен глядел этот казённый дом в столетний липовый парк, шумящий кронами и лепечущий листвою о баснословном осьмнадцатом веке, когда дряхлеющие дерева были гибкими саженцами, а окна свежо блестели двумя шеренгами во весь открытый фасад; многие комнаты училища располагались анфиладами, по-дворцовому, некоторые даже без выхода в коридор… В отличие от военных училищ, готовящих офицеров, а комплектуемых выпускниками кадетских корпусов, юнкерские училища первоначально имели задачей подготовку строевых нижних чинов к службе офицерами, и подавляющему большинству окончивших не давали офицерского чина, выпуская подпрапорщиками; офицерский чин присваивался им yжe в войсках, в армейской пехоте обычно.
Среди полутора десятков юнкерских училищ, созданных во второй половине 60-х годов, Московское считалось как бы головным. После переезда из Спасских казарм в Красные, оно и обустроилось лучше многих: имело свою училищную церковь, хорошую оружейную мастерскую, манеж для занятий строем и гимнастикой, а по соседству обширный плац. Не отягчённое, в отличие от военных училищ, выкрутасами престижа и политесами с именитою роднёю юнкеров, отличалось прямотою нравов и строгостью распорядка, а с годами прославилось в армии безотказною службой своих питомцев, основательно подготовленных. Специальные предметы в училище были, в порядке их значимости: 1) тактика, 2) артиллерия с артиллерийским черчением, 3) фортификация с инженерным черчением, 4) топография с топографическим черчением, 5) военная история, 6) военная администрация, 7) военное законоведение. Несколько особняком стоял “курс об оружии”, предмет важнейший, но более практический, чем классный, к тому же достаточно известный всем послужившим в строю. Обилие черчений вызвано назревшей потребностью документировать и проектировать военные решения при отсутствии подобающих технических средств, фотография тогда только входила в обиход, как сегодня компьютерная техника, радио ещё не было и в помине. Сегодня фортификация, как учебный предмет, уже не существует, и претерпели изменения военно-гуманитарные дисциплины, а в целом программа обучения была у пехотных юнкеров солидная и, пожалуй, завидная. Курс одногодичного отделения составляли исключительно спецпредметы плюс религиозное воспитание и строевая подготовка. Кроме религии, всё остальное было Андрею внове.
С чего начинается армейская жизнь? Казённый быт вообще?
Во-первых, конечно, с обмундировки.
Российская империя своих сынов приучала к мундиру с малолетства. В мундирах учащие (учителя) и учащиеся: гимназисты с головы до пят, прочие хотя бы в фуражке форменной; в мундирах чиновники всех ведомств, полицейские власти подавно, также и весь путейский персонал вплоть до билетного кассира, в мундирах всё казачество – Андрей вырос и возмужал среди мундиров и сам к 23 годам больше полжизни в мундирах отщеголял. Но все те мундиры, даже казачьих войск, облачённого в них как бы из толпы возвышали, ставили наособицу, “при исполнении обязанностей”, шились-примерялись те мундиры на заказ у портного, надевались дома и cнимались после урочной надобности, заменяясь халатами и прочей вольною затрапезой. Настоящая казённая одёжа означает несение повинности и облачаются в неё обычно скопом, отрешаясь до последней нитки от своего особенного собственного, получая в очередь, наудачу тощее, одинаковое, прикрывая потерянность свою скоромной насмешливостью, оберегая вниманием одну-две безделицы бесценные – от прежнего вольного “я” – проносимые в казённый быт.
“Носить кольца, перстни, выставлять цепочки от часов, за исключением жалованных, запрещается”.
“Носить траур юнкерам ни в коем случае не полагается”.
Обмундировка, это интендантское действо, такое с виду невоенное, пустяшное, на самом-то деле второму рождению подобна, смерти и воскрешению. И оттого, в каком настрое совершится этот миг перехода домашнего человека в подневольные, зависит подчас жизнь того человека на годы и годы: осмеют, швырнут, наорут, зацепят за больное – и осядет в человеке оторопь, нелюбие, для самого, быть может, неприметной порчей характера и растратой сил. Судя по всему, в Московском пехотном это прекрасно понимали и принимали меры, в сущности, простейшие: не допускать при обмундировке бестолковщины, чьих-то произвольных действий. Тогда надетый мундир ежели и не возрадует, не окрылит новобранца, то будет занятен ему, как обнова. Возможно, на этой процедуре юнкер Снесарев повстречал своего будущего ротного офицера-воспитателя Шишкина Ивана Владимировича, очень уж скоро установились между ними отношения, мало не отеческие-сыновние, судьбоносные для Андрея. (Если же И.В.Шишкин был не однофамилец, а родня последней квартирохозяйки Андрея, то он мог и в юнкеры Андрея сговорить).
В конце 80-х годов две роты Московского пехотного – 4 взвода, 16 отделений в каждой – насчитывали обе вместе до четырёхсот юнкеров, половина состава ежегодно обновлялась. Между новичков, к тому времени почти сплошь армейских младших унтер-офицеров, заметно прибывало вчерашних штатских – гимназистов и реалистов, не в диво стали и “высшего образования”. В училищный распорядок эти, как-никак, барчуки окунались словно в студёную сильную реку.
В 5.45 утра горнистом игралась повестка, в 6.00 – заря, подъём; утренний туалет, гимнастика, чай, молитва, утренний смотр… От подъёма и до отбоя каждый этап юнкерских буден отмечал сигнал горна, всяк день неизменный. Сигналы, по тогдашнему выражению, “бились”, невзирая, что барабан давно отзвучал в училищах и в штате были не барабанщики, а по 1-2 горниста. Поразительна эта наша привязанность к неким общим звуковым символам, мы поминаем их долго после, как они отзвучат: тот же набат, заводской гудок. “Где-то детством моим отзвенели петербургских гимназий звонки…” Те из нас, кого в детстве ещё застали настоящие горны, уже выдыхающиеся, столбенеют с улыбкой, встретя ныне робкие попытки их реанимации… И нынешний шумный рок – не иное что, как бесконечно повторяемый сигнал-аккорд, монотонно-требовательный, как гудок. Церковный благовест, да и строевые стандарт-сигналы отличало многообразие. Всех армейских сигналов было до трёх десятков, плюс комбинации их и разный темп исполнения. Некоторые сигналы имели слова и пелись, юнкера обязаны были их знать и уметь. Одни сигналы всегда встречались оживлением и весёлостью, другие наводили кручину на лица.
От 7.45 до 13.55 у юнкеров шли классы; после третьего урока – завтрак. С 14.05 до 16.00 – строевая подготовка, чистых полтора часа ежедневно. И если военные науки могли вызвать у образованных молодых людей живой интерес, даже увлечь их, то строевая!..
Но, во-вторых, – армейская жизнь, казённое бытие вообще, начинается наукой, команды чётко исполняя, ходить строем. Не зря говорится: “строевая служба”, “50 лет в строю”.
Не секрет, однако, что строем, строевой подготовкой в частности, можно довести человека до полной потери облика (полутора часов ежедневно для этого предостаточно); правда, те же прискорбные результаты достигались, как известно, и учёбой, и рукоделием, служебной и любой иной деятельностью, а также бездеятельностью, простым стоянием на месте. Всё в руках человека и дело единственно в том, каков человек. Но строю “везло” особо. Столько брани обрушено по адресу “строевой муштры”, ранжира и регламента – и это бы ничто! Но хулою и отрицанием именно строя каждая очередная вражья буза затевалась, строем же, естественно, и оканчивалась, да уж то бывал строй! “Разворачивайтесь в марше! Ваше слово, товарищ маузер!”, “Шаг вправо, шаг влево – считается как побег”.
Самое время сказать о строе доброе слово.
Начать с того, что ноги и руки у людей, походка и жест выразительны, как и лица, и также разны у всех, более разны, пожалуй, чем лица, потому как черты лиц можно подправить выражением или гримом, а походка и осанка трудней поддаются хотениям воли, оттого что выражают не только настроение человека и состояние организма, но и устроение его. Умный строевой командир всегда видит мысли солдата и его характер, может и про папеньку с маменькой много чего угадать. И понимает умный командир, что никаким строем этого враз не переиначить, не поломав, а ломаное куда годно? Строй призван выучкой, повторами бесконечными втеснить те или иные навыки в привычку, в плоть и кровь; а отзовётся это, глядишь, во внуках уже, хорошее или дурное – враз не переиначишь. Строй же всегда повторяет свою государственную систему, вне системы строй не нужен. Как и система порядочная без строя невозможна. Ибо строй есть высший способ суммировать векторно энергию множества людей, отнимая у них возможность размениваться на ячество и суету.
Добрый строевой командир поверх всего видит разделенье людей на два сорта: на имеющих склонность к строю и, напротив, к строю не расположенных. У одних тяга к людям, и они привыкают к строю охотнее, шагается им свободней и хотя бы уставали сильно, не надрываются, а только крепнут. Другие строя не любят; такие чаще верховодят в жизни, благодаря своей жёсткости, однако ж в строю изволь быть жёстким к себе – вот и выходит им строй маетою и ущемленьем. И тащат они свои обиды строевые на всё остальное окружающее и многие беды производят. Командир отнюдь не должен допускать равнения строя на них, на себялюбие, но также и боданье-ляганье их недопустимо; строем, как мало чем другим, можно притереть людей друг ко другу, углы напрасные сгладив, наработать привычку надёжной слаженности. Имеющие талант к строю, они часто самолюбивы, резки от застенчивости, да покладистее, сердечнее, тоньше, вернее сказать. А где тонко, там рвётся; и отходчивые, незлопамятные они. В строю, когда равнение на них, они себя раскрывают, ладность свою, уверенность весёлую и воцаряется постепенно общая взаимная ответственность, содружество, проще сказать. А там радость строевого общения переходит в казарму, в наряды-дежурства, во всю остальную жизнь. После такой службы, детей своих и внуков в строй провожая, глядят им в глаза охотно. (Злой строевой командир – худший неприятель Отечеству).
Капитан Шишкин Иван Владимирович, ротный Андрея Снесарева, был командир строгий, умный и добрый; то есть мудрый на своей службе. Пожалуй, и не один он таким был в Московском пехотном в те годы, когда сбывались мечтания скромных юнкерских наставников готовить для России высокообразованных армейских офицеров. Московское пехотное исполняло эту трудную одногодичную задачу строго и заботливо. Одна, казалось бы мелкая, подробность: в баню юнкерам полагалось ходить дважды в месяц, нательное бельё переменять не реже двух раз в неделю, зато носки – ежедневно!
Избавлением от трудов праведных на плацу или в манеже звучал сигнал сбора, обед. Кормили добротно и с предосторожностями, опять-таки, заботными. Масло подавалось на столы обязательно растопленным, мясо варилось четыре часа: холодильников не было, были погреба, ледники, были веками отработанные приёмы обращения со снедью-свежатиной, а всё ж случались порой неприятности вроде холеры или сибирской язвы. “Бережёного Бог бережёт”. Молока почти не давали, творог бывал. В постные дни щи варились грибные или на осетрине со снетками, картошка жарилась не на сале, каши сдабривались постным маслом. Вся пища довольно круто солилась, при трёх-четырёх горячих кушаньях в день расход соли был одиннадцать фунтов, не считая пекарни. Пуд соли училище съедало в три дня, и юнкера знали друг друга достаточно.
Хлебозаводов не было тоже. Хлеб пекли в батальонах, а то и в ротах, обычно подовый, на закваске; пекли и в военных училищах. В Московском пехотном, как по всей армии, хлеб “отпускался в употребление” не ранее, как на третьи сутки по выпечке. За двое суток ржаной хлеб на закваске не черствеет, но вылёживается и не дображивает после употребления. Опять же, и запас хлеба двухсуточный не помешает никогда. Высокие чины, составляющие инструкции и утверждающие их, не постеснялись издать для господ юнкеров и такой пункт: “За третьим блюдом каптенармус наблюдает за сбором со столов оставшихся целых кусков хлеба”. Излишки хлеба шли на квас, верный источник витаминов, да плюс квашеная капуста и лук. (В Москве на казённый и общественный стол квас подавался круглый год без ограничения и бесплатно). Хлеба юнкеру полагалось три фунта (1,2кг.) в день, круп 1/3 фунта, говядины не менее полфунта и т.д. Хозяйство училища и финансы вёл офицер-квартирмистр, но все провиантские, провизионные и прочие котловые заботы о юнкерах лежали на каптенармусах и артельщиках, избираемых среди юнкеров самими юнкерами сроком на одну неделю; переизбрание на второй срок не допускалось.
После обеда пелась очередная ежедневная молитва, истинно благодарственная, в довольстве праведной сытости и молодой усталости, а главные дневные труды позади, до 18 часов полагался отдых, разрешалось лечь в постель. Открывалась читальня. Тут господам юнкерам была отдушина в строгости службы. “При входе в читальню офицеров училища до Начальника училища включительно, никаких команд не производить и занятий не прерывать”. Кроме рапорта дежурного, разумеется. Не вставали при появлении в спальне офицера и лежащие в постелях, хотя бы и не спали, тоже кроме дежурных и тех, кто прилёг, не раздеваясь.
С 18.00 – самостоятельные занятия, та же читальня. Фонды библиотеки насчитывали около пяти тысяч томов до полутора тысяч названий: в предыдущем году Московское пехотное унаследовало часть книг упразднённого Варшавского юнкерского училища. По разделу изящной словесности, русской и западной, века XVIII-XIX были представлены, как в советских школьных библиотеках – от Пушкина, Некрасова и обоих Толстых до Хижины Дяди Тома, Жюля Верна, Диккенса и Майн-Рида, плюс кое-что позабытое ныне (Надсон, Боборыкин), а также запретное у нас до недавних лет: Екатерина II, например, Достоевский и С.Максимов, а рядом с Добролюбовым, Писаревым и Белинским стоял Аполлон Григорьев… Отдельным разделом стояла воинская словесность: В.Немирович-Данченко, М.Драгомиров, В.Верещагин.Были отдельные разделы по каждому из предметов учебного плана, особенно богатые по артиллерии и педагогике. В разделе географии будили воображение военно-статистические описания далёких земель, сделанные путешественниками-генштабистами; со временем к ним добавятся и книги А.Е. Снесарева. Из раздела военной администрации юнкер Снесарев наверняка пролистал увлекательную для будущего офицера книгу В.Н. Зайцова “Руководство для бригадных, полковых и батальонных адъютантов по всем видам их деятельности”, эта краткая штабная энциклопедия имелась в нескольких экземплярах, как учебное пособие. Не мог же Андрей предчувствовать, что держит в руках труд своего будущего тестя! Личный интерес у него могли бы вызвать две-три другие книжки, сочинения его университетских профессоров – имей он время заглядывать в разделы общеобразовательных предметов. Времени же жутко не хватало. За один год Андрей и его однокашники проходили двухгодичный курс военного училища, отчасти сокращённый, но учебники были в большинстве военно-училищные и все преподаватели спецпредметов были выпускниками военных училищ и спрашивали без скидок!
В 19.45 игрался сбор на вечерний чай. “Ко времени вечернего чая всем юнкерам, не исключая должностных, заменять мундир шинелью”, – это из экономии одежды; не позабыты, однако ж, и рамки приличия: “галстух обязателен при мундире и шинели (в училище)”.
Наконец – вечерняя перекличка. Вечерние молитвы пелись дважды, после чая и переклички. “Юнкера-иноверцы для чтения молитвы не назначаются”. Мало того! “Во время лекций Закона Божьего юнкера-иноверцы находятся в другом помещении и занимаются по указанию учебной администрации”. Веротерпимость это или отлучение? В училище шли добровольно, могли бы вкупе с артиллерией и православию научаться?.. Едва ли кому приходили такие мысли. “Вооружённым в Св.алтарь никогда не входить, не подходить к Св.тайнам, не прикладываться к местным иконам и к Св. плащанице”. Веротерпимость российская была поистине беспредельна. “Желающие из неправославных юнкеров увольняются в их церкви, откуда, по окончании церковной службы, они обязаны вернуться в училище”. Православные юнкера, увольняясь из стен училища лишь на общих основаниях, раз в неделю, по средам, после всех занятий, тем самым имели меньше прав (и самостоятельности!), чем иноверцы; национальность в России официально не учитывалась, только вероисповедание. Свобода совести, причём не на бумаге, распространялась и на своих, православных, впадавших в соблазн отпадения: “от присяги освобождаются лица, не приемлющие оной по их вероучению”. Естественно, в юнкерские училища таковые не поступали.
Время после вечерней молитвы и до отбоя считалось личным, отводилось клубной работе. Училище имело хороший хор, участие в нём юнкеров поощрялось. Хор давал публичные концерты. Андрей Снесарев начал здесь выступать солистом, сохранив связь с хором надолго. На концерте 30-летия Московского пехотного (1894г.) он споёт дуэтом с выпускником училища, тоже из студентов университета, Леонидом Собиновым популярнейший тогда либеральный романс “Нелюдимо наше море”,слова Н.М. Языкова. Музыку на этот текст сочинили к тому времени семь композиторов! Восьмого за целое ХХ столетие пока не нашлось.
Отбой в училище игрался в зависимости от увольнений, других мероприятий, в 23.00 и не позднее 24.00. Водопровода и канализации училище в те годы, как почти вся Москва, не имело. Юнкерам строго запрещалось выскакивать ночью “в ретирадное место” без шинелей, а если внакидку, не надев рукава, то обязательно застёгивать ворот и верхний бортовой крючёк. Вставать ранее 4-х утра не разрешалось. Электричества в быту также ещё не было, поэтому юнкерам, желающим позаниматься до подъёма, полагалось жечь собственные свечи или же сидеть возле лампы дневального…
Минует четверть века. Привычны станут ватер-клозеты, появятся автомобили, аэропланы и радио. Россия переможет Пятый год, начнёт вовсю электрифицироваться. Грянет мировая война. В феврале 1915 года из нервной толчеи тыловых буден в Алексеевское военное училище на курсы прапорщиков попадёт костромской семинарист А.М.Василевский, будущий Маршал Советского Союза. Распорядок дня училища, ритуальная строгость его соблюдения останутся неизменны, по-прежнему разумны и категоричны. И эта живая традиция, поддержанная личным примером училищных командиров, поможет провинциальному поповичу проникнуться высоким духом воинского служения. “Поклоняться знамени. Служа Отечеству, ставить службу выше личных дел. Действовать целеустрёмленно. Не бояться самостоятельности…”
В феврале 1889 года приказом по училищу юнкер Андрей Снесарев был произведён в унтер-офицеры. За полгода в упорядоченной молодёжной среде, живущей трудами и разумной суровостью, старшинство Андрея среди сверстников не могло не проявиться с полной очевидностью. Вероятно, в это же время окончательно вызревал его жизненный выбор под влиянием Ивана Владимировича Шишкина, которого Андрей Евгеньевич в свои зрелые годы не раз помянет добром.
Молодых унтеров поступило вместе с Андреем в училище немало, да все они оказались в младшем классе. А из юнкеров с образованием не служил никто. В строевых отделениях (12-15чел.) ещё как-то можно было подмешивать к ним служилых, в отделении классном (30-40чел.) при специальной программе это исключалось. Очевидно, Андрей стал начальствующим юнкером классного отделения гораздо раньше своего производства в первый чин.
“Старший в классе обязан… Он обязан… Он обязан…”– повторено Инструкцией для юнкеров двадцать (!) раз.
“На начальствующем юнкере лежит обязанность сохранять среди подчинённых юнкеров воинскую дисциплину, внутренний порядок, служебную исполнительность, начала нравственных и товарищеских отношений и начала воинской чести”.
“Начальствующим юнкерам надлежит помнить, что подчинённые им юнкера стоят на одной с ними высоте умственного и нравственного развития, связаны с ними присущими им самим понятиями о воинской чести и о чувстве собственного достоинства, и вот почему они обязаны относиться уважительно к личному достоинству подчинённых им юнкеров”.
“Своим усердием к службе, личными примерами нравственных начал и терпения, обдуманностью и строгою последовательностию отношений к подчинённым, спокойною законностию приказаний и решительным воздержанием от личного произвола в поступках и требованиях, они станут на высоту начальника и старшего и сумеют сохранить вне службы тёплые товарищеские отношения к подчинённым; тем же путем они сумеют внушить в подчинённых им юнкерах уважение и приязнь лично к себе”.
“Вообще старший должен помнить, что кому больше дано, с того следует больше спросить”.
Это основные обязанности. А права?
“Начальствующие юнкера должны служебные свои требования выражать в форме приказаний, отнюдь не в форме приятельской просьбы и, не входя ни в какие объяснения с подчинённым юнкером, нарушившим порядок или не исполнившим приказания, докладывать о нём по команде, а в случае надобности и дежурному по училищу”.
Дисциплинарной властью начальствующий юнкер, в отличие от строевого унтера, наделён не был: наказаний не налагал и поощрений не объявлял; преимуществ при производстве тоже не имел, а разве что при распределении. Поэтому в училищном обиходе их именовали не унтер-офицерами, а портупей-юнкерами. Возводили в это звание безусловно лучших, нагружая добавочно избыток их возможностей, давая им благое направление ко всеобщей пользе.
Как раз признания – не заслуг, нет, а возможностей своих, полезности своей признания так недоставало Андрею; история столь обычная у российских мальчиков самолюбивых. Мало им признания материнского, безразличного к их достоинствам и почти не требующего усилий отдачи… Андрей не чурался власти. Долгие сорок лет после училища он располагал властью, частицей неоспоримой имперской власти, растущей в его руках вместе с его чинами, то набухая, то усыхая, смотря по должности; он напрягал её спокойно и только в силу необходимости, никогда попусту, просто чтоб не завяла, но неизменно с единственною целью: утвердить разумный справедливый порядок, когда бы каждый соблюдал свой долг, а сильнейшие могли бы не отметать остальных-прочих, но открывали бы им пути “стать в общий уровень”, как в Московском пехотном.
Умещая двухгодичную военную науку и выучку в один год и личным примером показывая благотворность предельных усилий, притом заботясь, по долгу службы, чтоб самые благодушные однокашники таким примерам тоже внимали, за всеми за этими делами-заботами Андрей и не заметил, как пролетел тот год. Последние недели ещё уплотнились приятными хлопотами обзаведения офицерским гардеробом и амуницией. На сей случай каждому производимому в Их Благородия отпускалось казною по 225 рублей безвозмездно. Сумма подходящая, если сравнить с годовым расходом на юнкера в три сотни рублей или с годовым содержанием подпоручика – 477 рублей.
Трудно вообразить молодого человека, будь он четырежды пацифист, кому бы не шёл к лицу офицерский мундир с иголочки, безупречно подогнанный!.. Такими роскошными добротными одеждами Андрей отродясь не владел: мундирная пара с погонами, сюртучная пара с погонами, шинель, теперь именуемая “пальто офицерское”, сшита из плотного престижного кастора, ещё эполеты и фуражка с козырьком (юнкера бескозырки носили), шапка барашковая, тонкой кожи сапоги высокие и другие – короткие, шашка с пышным темляком и многоремённая портупея на манер новой изящной приятной сбруи и ещё, и ещё всячины!.. Одежды сияют россыпями пуговиц, от них Андрей поотвык за своё юнкерство, юнкера застегнуты сплошь на крючки, бельё на тесёмках, а пуговиц у юнкера две пары всего и те для красы, пара на погонах мундира, другая на хлястике шинели, их надо содержать в ясном виде. Распределялся Андрей в I-й лейб-Екатеринославский Его Величества полк, “лейб” означало “состоящий при Особе монарха” и по такому шефу полка Андрею полагались пуговицы с императорскою короной и на фуражке корона, а на погонах к двум звёздочкам – литера Августейшего имени с короной тоже.
С производством и выпуском возникла препинация. Военные училища выпускали офицерами в начале лета, до лагерных сборов, и господа офицеры успевали отдохнуть перед службою; юнкерские училища отчего-то выпускали в конце лета. Военно-училищный курс вдруг было где-то решено тоже выпускать до лагерей, год сокращался на целые два месяца, а выучить оставалось столько-о! Одних уставов затвердить – шесть, инструкций и наставлений – восемь; тоненькие, а книжки!.. И рассудил кто-то здраво: ежели отделение одногодичное, то в году же двенадцать месяцев, 1 сентября учение начинается, августом учению и заканчиваться. И все треволнения разом улеглись и тут же позабылись. Обычная наша бумажная неразбериха. Утешаемся: мол, основательное редко бывает гладким, разве что египетские пирамиды, когда новенькие были!
Московское пехотное стояло летним лагерем на Ходынском поле, обок с несколькими строевыми частями Московского округа, ближайшим соседом был 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк.
“Запрещается сидеть в виду проходящих мимо лагеря воинских частей”.
“Арестованные юнкера участвуют во всех полевых работах и строевых занятиях”.
“В отпуск разрешается уходить только через село Всехсвятское; возвращаться тем же путём”.
“Инструкция для руководства юнкеров Московского пехотного юнкерского училища”, столь часто цитированная здесь (а надо бы почаще), в число восьми инструкций и наставлений, обязательных для пехотного офицера, конечно, не входила. Автор инструкции нам не известен, а утверждал её генерал-лейтенант Духовской, давний – более десяти лет – начальник штаба Московского военного округа, ему подчинялось училище территориально. Духовской окончил кадетский корпус еще при Николае I и с 17 лет, с прапорщиков, служил в строю, сначала в гвардии, потом воевал на Кавказе; окончил две военные академии – Инженерную и Генерального штаба. С Духовским Сергием Михайловичем судьба ещё сведёт Андрея Снесарева и по службе в Москве, и позднее.
Московское пехотное в том году праздновало как бы двойные именины. Отмечая своё 25-летие, открывало новую эпоху подготовки российского офицерства. Если в 1887 году оно выпустило офицерами 10 юнкеров, успешно закончивших курс, а на следующий год уже 79, то свой серебряный юбилей отмечало выпуском 189 офицеров! Выпуск всех вместе остальных военных и юнкерских училищ был всего-то вчетверо больше! И ощутимо легче обременяло казну Московское пехотное – против военных училищ и кадетских корпусов – дерзая продвигать своих выпускников и в гвардию (двое), и в артиллерию (двадцать), то есть в рода войск, традиционно пополняемые офицерами исключительно из военных училищ . Первопричиною столь блистательного успеха, несомненно, было допризывное образование юнкеров Московского пехотного.
Андрей Снеcapeв среди целой роты прапорщиков и подпоручиков своего выпуска шёл одним из первых, удостоился занесения на мраморную доску, а значит имел право на выпуск в гвардию (с годовым испытательным сроком) или на перевод в инженерное или артиллерийское училище, где его математика пришлась бы весьма кстати. Утомился ли он беспрерывным семнадцатилетним учением; колебался ли: служить – не служить, а Екатеринославский полк ещё оставлял ему возможность выбора; имелись ли иные какие резоны его выходу в гренадерский полк, то есть фактически в пехотный… Своевременным отличием Андрея всё же не обошли: в свой полк он выпускался с годом старшинства, год учёбы шёл ему за год офицерской службы.
Итак – выпуск. В унтер-офицеры Андрея Снесарева произвёл начальник Московского пехотного полковник Галахов, офицерами производили только Высочайшим приказом. Примерно, как в современной песне поётся:
“Под громкое, троекратное, раскатистое “ура!”
Присягу Императору давали юнкера;
Каникулы, каникулы – в Собраньях вечера…”
“Вход в помещение юнкеров вновь произведённым офицерам воспрещается”. Дружба, как говорится, дружбой, а служба – службой.
“Каникулы, каникулы” у Андрея Снесарева получились короче месяца: отчислен из училища 12 августа, прибыл к полку 7 сентября. На дорогу домой и обратно тратилась неделя; поезда ходили тогда небыстро, пассажирский Москва-Петербург шёл без малого сутки, скорый – пятнадцать часов, на юг и восток движение было, в среднем, медленнее, да ещё пересадки у Андрея, а последний перегон до Камышовской, до родного порога – на конной тяге.
Каков праздник вызвал приезд красавца-офицера в семье! Да и в станице!
Ещё множество было станичников, помнящих Андрея подростком, ребёнком, помнящих батюшку Евгения, многих и Андрей помнил по своим давним ещё детским годам. Они словно бы неизменны обликом оставались за прошедшие годы, а только будто уменьшались ростом, размерами вместе со всей станицей, в которой повсюду ветхость проступала, а в людях – слабости. И только Дон да степь, хотя и тронутые повсюду и там, и тут небрежной беззаботностью людской, просторны по-прежнему Дон и степь и бесконечны, как небо над ними!..
Горше же всего умалилась дорогая вдовая мамочка возле взрослеющих деток своих, как на подбор сложения крупного, щедро одарённых. В одно время с Андреем окончила Царскосельское епархиальное сестра Клавдия, Кая по-домашнему, ближайшая Андрею в родной семье, должно быть, как самая любознательная; унаследовала мамин певучий голос, возможно, и терпение мамино: художественно-прекрасно вышивала. Четыре сестры Снесаревы, рослые все, пожалуй что и красивые, спокойно-красивые, заканчивали Царскосельское училище друг за дружкою, непременно первыми или вторыми ученицами. Раньше Клавдии закончила Лидия и уже вышла замуж. Теперь учиться Анне. Вера и Павел ещё у мамы на руках, Паня – совсем ребёнок, тринадцать лет… Быть может, навестил Андрей неблизкую станицу Филоновскую, туда вышла замуж Лиля, и при ней с год проживёт Кая, подмогой сестре в её первом материнстве. (А красного комдива-16 Киквидзе Василия Исидоровича, с чьим именем связана гибель Лилиного первенца и Лилиного мужа, до-о-олго ещё и на свете-то не было, в 1895-м он только ещё родится). Лиля, младше Андрея на целые пять лет, почти ровесница девице Кае, Андрей в её возрасте студентом стал, а она, гляди-ка, хозяйка в своей молодой семье… Должен был посетить Андрей и старшую сестру Надежду, это рядом, станицу Мариинскую всю видать с колокольни из Камышовской; Надя почти ровесница Андрею, позже него с родным домом рассталась, а взрослая такая и самостоятельная, настоящая казачка, право! (Опять же, недолгие те побывки праздничней долгих и памятнее в дальнейшем).
И только мамочка! Быть возле мамочки или прощаться с нею – всё одно хоть плачь! Скорбный мир вдовьего семейного круга, замкнутый на ближайшие детские нужды, на устояние в жизненном потоке, благодаря доброй родне, благодаря добрым людям. Поднять детей! А дети, поднимаясь, перерастают семейный уклад, стремятся прочь от него – Андрей вырос первым, давно, как перерос и весь благодушный кругозор заштатной станицы, рассеянно живущей домашними привычками, старинным опытом устойчивости своего бытия. Год спустя Андрей выскажется под горячую руку в письме к сестре Кае: “…пахнуло таким душным милым старьём с его сладкими пошлыми формами, с его глуповатыми самообольщениями…” Детки станичников многие воспитывались вне дома. Воспитанием задаётся человеку стиль жизни, из разницы воспитаний произрастают проблемы отцов и детей. Перешагнуть своё воспитание редко кому удаётся.
Провинциальная самодеятельная жизнь не разумела Андрея, места ему не готовила.
И Андрей тоже прикоренился к Москве, где зримо зарождались новые времена… Не могло быть, чтобы он остался в полку лишь ради житья в Москве без лишних забот, военная служба непременно должна была иметь в его глазах свой собственный смысл.
В те годы вовсю гремела в Европе и Азии недавняя слава героя Шипки и Туркестана генерала Скобелева; однако Андрей, характером увлекающийся, чрезмерностей всегда был чужд, а окружающее воспринимал на редкость объёмно, и потому воинская слава, при всём молодом честолюбии Андрея, сама по себе увлечь его не могла.
В те годы ещё богато плодоносили реформы недавнего военного министра генерал-фельдмаршала и профессора Д.А. Милютина (которому суждена была тридцатилетняя почётная опала). Быть может, Андрей уже разглядел растущую универсальность военной профессии, её расширение на все сферы техники и науки и жизни государства, уловил неизбежную системность будущего, уже зреющую в таких организациях, как армия?
Могло сказаться и наследственное призвание к работе с людьми, влиянию на людей… Двадцать лет спустя в одной из своих статей Андрей Евгеньевич с горечью призовёт: “Надо упорно идти к тому, чтобы военная жизнь складывалась ласково, тепло и беззаботно”, – строки необычайные и ощутим за ними некий опыт живой, не просто пожелание благое или фантазии. Так могло служиться ему в Туркестане, но тогда счастливый молодожён вряд ли покинул бы Округ навсегда. Скорее, Андрею поверилось в дружелюбие армейской жизни там, где она для него начиналась – в училище юнкерском…
Как бы ни было, выбору своему Андрей останется верен. Послужит Отечеству авторитетом и командира, и учёного, принеся на обоих поприщах пользу немалую. Начнёт же службу с гренадерского взвода и начало это выйдет долгое подпоручику Снесареву.