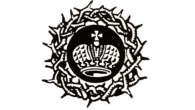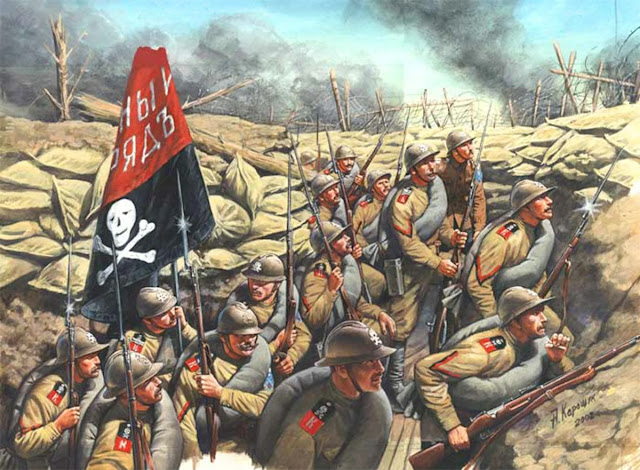Москва, 2 апреля – Наша Держава. Многие историки считают, что российское общество двигалось к Гражданской войне аккурат с 1917 года. Во
многом «раскол на два лагеря» проявился именно в массовом дезертирстве с
одной стороны и созданием ударных частей — с другой. Уже тогда
появились люди, желавшие мира «любой ценой» (и их было большинство) и
люди, готовые воевать до конца с внешним противником (но их было
меньше).
Февральская
революция не так сильно ударила по фронту, как приказ №1, выпущенный
Петроградским советом (авторы — меньшевики и соцдемы). Впрочем, все это —
звенья одной цепи, в стране фактически установилось двоевластие.
Временное
правительство и некоторые военачальники попытались остановить
разложение армии путем создания особых отборных ударных частей, которые
бы вдохновляли на подвиг остальных. Эти части предполагалось пополнять
только добровольцами.
Но
вот тут-то и кроется самое интересное. Сами авторы «концепции»
прекрасно понимали, что такие герои практически все обречены (об это
писал Гучкову член правления Русского торгово-промышленного банка).
«Туда
уходили все, в ком сохранилась ещё совесть, или те, кому просто
опостылела безрадостная, опошленная до крайности, полная лени,
сквернословия и озорства полковая жизнь. Я видел много раз ударников и
всегда — сосредоточенными, угрюмыми. В полках к ним относились сдержанно
или даже злобно.
А когда пришло время наступления, они пошли на колючую проволоку, под
убийственный огонь, такие же угрюмые, одинокие, пошли под градом вражьих
пуль и зачастую… злых насмешек своих товарищей, потерявших и стыд, и
совесть. Потом их стали посылать бессменно изо дня в день и на разведку,
и в охранение, и на усмирения — за весь полк, так как все остальные
вышли из повиновения…» (с) А.И. Деникин. Очерки Русской смуты.
ассистенты и адъютант 1-го Ударного отряда 8-й Армии (позднее
преобразован в Корниловский ударный полк) поручик князь Ухтомский, 1917
год.
«Ударничество»
всеми силами поддерживал военачальник А.А. Брусилов, против же выступал
М.В. Алексеев, уверенный, что война продлится еще долго, а такие
патриотические кадры нужно беречь.
И
именно в 1917 году уже появились те самые «корниловцы» — ударники 1-го
отряда при 8-й армии, в дальнейшем — первый ударный полк Русской армии,
первый полк армии Добровольческой.
Помимо
«частей смерти», были еще и «корабли смерти» плюс «волонтеры тыла».
Движение приобрело довольно масштабный размах, но все-таки недостаточный
для эффективного продолжения войны. И, да, подобные формирования
использовались и в качестве «заградительных отрядов», плюс планировалось
подавлять ими возможные перевороты. Тот же М.В. Алексеев, критикуя
Брусилова, требовал предоставить «ударникам» именно полномочия
«заградотрядов»:
«Считаю
большой ошибкой генерала Брусилова и других начальников, что бесполезно
погубили лучших людей и массу офицеров, пустив ударные батальоны
вперёд; за ними никто не пошёл. Ударные батальоны должны были составить
резерв и гнать перед собою малодушных, забывших совесть…» (с) Солнцева С. А. Ударные формирования русской армии в 1917 году
А вы все Сталин, Сталин, заградотряды, заградотряды…
Впрочем,
мысль-то здравая, все эти наработки потом явно использовались красными.
Требовалось удержать фронт и навести порядок в тылу. А как ты это
сделаешь, без крайних мер?
А
так, то последствия действительно казались плачевными: летнее
наступление Керенского (июнь 1917 года) провалилось, а ударные части
только «двухсотыми» потеряли почти сорок тысяч человек! (данные генерала
Н.Н. Головина)
С
другой стороны, выжившие ударники во многом оказались в итоге именно в
белых армиях (очень многие, из известных — Л.Г. Корнилов, В.К. Манакин,
М.О. Неженцев, Н.В. Скоблин, А.В. Туркул, М.Л. Бочкарева), где
использовали этот опыт штурмовых атак. Потери их не особо страшили. Вот
этот «культ обреченности», столь заметный у белых (на плакатах, в песнях
и т.п.) — явно следствие влияния ударничества, которое было явлением
героическим, но, с военно-политической точки зрения — бесполезным…