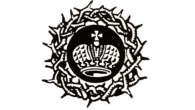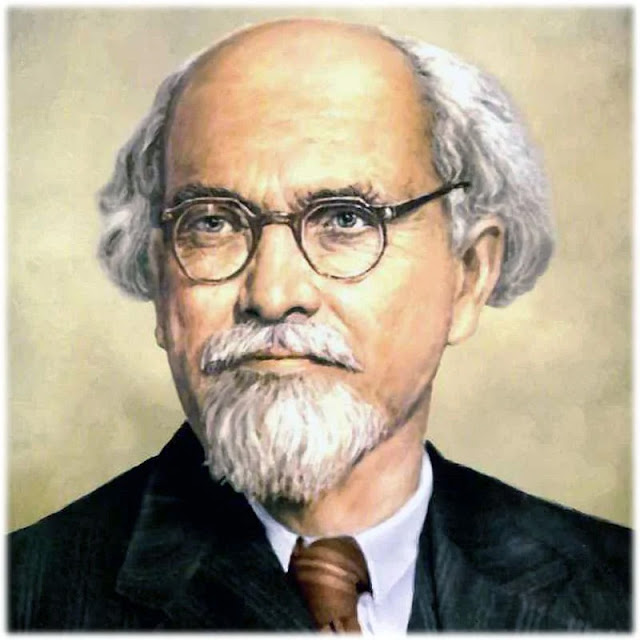Москва, 19 февраля – Наша Держава. “Не
очень давно шевельнулось во мне особое чувство перехода от поэзии к
жизни, как будто долго-долго я шел по берегу реки, и на моем берегу была
поэзия, а на том – жизнь. Так я дошел до мостика, незаметно перебрался
на ту сторону, и оказалось, что сущность жизни есть тоже поэзия…” Так
писал и так жил, как писал, Михаил Михайлович Пришвин. Пришвин
растворился в своих книгах без остатка. С него мы начинаем познавать
окружающий мир: “Еж”, “Лисичкин хлеб”, “Берестяная трубочка”, “Ребята и
утята”. А потом взрослеем с “Кащеевой цепью”…
“На
иных березах, обращенных к солнцу, появились сережки золотые, чудесные,
нерукотворные. На других только наклюнулись почки, на третьих
раскрылись и уселись, как удивленные всему на свете, маленькие зеленые
птички. Там на тонких веточках сидят, вот и там, и там… И все это нам,
людям, не просто почки, а мгновенья: пропустим – не вернутся. И только
из множества множеств кто-то один счастливец, стоящий на очереди,
осмелеет, протянет руку и успеет схватить”.
Проза
Пришвина цвето-музыкальна, по большому счету весь Пришвин сплошная
светопись, кладовая солнца, повзрослевший Курымушка, но так и не ставший
взрослым. Второстепенный герой, зайчик из “Кащеевой цепи”:
“После
того я окончательно убедился, что герой может быть не только не героем,
но даже и личность в нем необязательна: он может просто, как зайчик,
выйти посидеть на терраску, а из-за этого произойдут события
грандиознейшие. Так бывает!”
Да,
так бывает. Его выгнали за наглое и даже вызывающе поведение из Елецкой
классической гимназии. Учитель по прозвищу Козел оказался в последствии
Василием Розановым.
Хулиган Пришвин – теперь наш учитель жизни.
Розанов
и Пришвин впоследствии встречались, вспоминали этот эпизод, с годами
обраставший все большими подробностями и значением. Розанов благословлял
Пришвина: “подальше от издательств”.
И
Пришвин ушел от революции, издательств, ушел в лес, как в литературу
или наоборот. Недаром конкурент его в прозе Соколов-Микитов как-то
саркастически выразился: «Пришвин…на своем эгоизме, со своей
эгоистической философией отдавал сердце лишь себе самому и „своим
книгам“, питаясь, впрочем, „соками“… был красив, но вряд ли храбр… как
городской барин и интеллигент».
Барина
и интеллигента издавали. Официальный, детский писатель Пришвин на
грузовике со своим сыном и прислугой ездил по городам и весям, встречал
рассвет и закаты в лесу, живописал словом. А другой, потаенный вел
дневник:
“Всем
научились пользоваться люди, только не свободой. Может быть, бороться с
нуждой и крайней необходимостью гораздо легче, чем со свободой. В нужде
люди закаляются и живут мечтой о свободе. Но вот приходит свобода, и
люди не знают, что с ней делать…”
Свою
подлинную летопись Пришвин реализовал в фотографии. В Сергиеве Посаде,
где, кстати, до сих пор нет музея Пришвина, в краеведческом музее
хранится его фото-архив. Пришвин снимал разгром большевиками Лавры.
А в дневнике отпевал ее:
“На
колокольне идет работа по снятию Карнаухого, очень плохо он поддается,
качается, рвет канаты, два домкрата смял… сбросили Карнаухого. Как
по-разному умирали колокола. Большой, Царь, как большой доверился людям в
том, что они ему ничего худого не сделают, дался опуститься на рельсы и
с огромной скоростью покатился. Потом он зарылся головой глубоко в
землю…”
Как будто о человеке умирающем писал, о жизни, весь уклад и быт которой заменили на новый:
“Карнаухий
как будто чувствовал недоброе и с самого начала не давался, то
качнется, то разломает домкрат, то дерево под ним трескается, то канат
оборвется. И на рельсы шел неохотно, его потащили тросами…”
Дневники
Пришвина худо-бедно издаются. Но оказывает ли Пришвин на современную
литературу хоть какое-нибудь влияние? Хотя бы приблизительно такое, как
оказал на него – Серебряный век в лице Розанова?
Сомневаюсь. Пришвина читают в основном читатели:
“Главное
горе портретной фотографии – это что люди стремятся изобразить собой,
что они “снимаются”. А в литературе этому точно соответствует, когда
писатели “сочиняют”. Пошлее этого сочинительства нет ничего на свете…”
Все
остальные сочиняют, нисколько не принимая в расчет, что издание книг и
присуждение премии – это еще не литература и далеко еще не талант. Ведь
по Пришвину талант – “это…есть способность делать больше, чем нужно
только себе, это способность славить зарю, но не самому славиться…”
Литература
по Пришвину – капли, которые сияли, блистали, радовались жизни, но
хватил мороз и не достигли они “большого, как океан, мира человеческого
творчества”.
Пишущему или марающему бамагу надо вегда помнить, он всего лишь – капля!
Но если творчество – капля, то Пришвин –
океан!
Михаил Пришвин родился 4 февраля 1873 года.