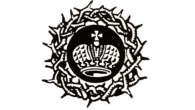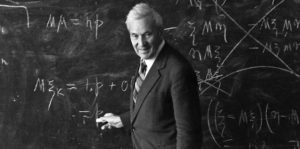Москва , 28 февраля – Наша Держава (Александр Севастьянов). Как мы знаем из новейшей истории нашей Державы, в 1980-е годы интеллигенция не уезжала массово из СССР на ПМЖ, разве что по израильской визе или в результате высылки диссидентов. За годы советской власти интеллигенция выросла в 10 раз; в 1989 году люди умственного труда составляли в РСФСР 30% населения. Это сказалось на качестве народа в целом. В поздний брежневский период в нашей стране сложилась неповторимая интеллектуальная атмосфера, творческая, умственная жизнь била ключом. «Физики» и «лирики» плотно взаимодействовали друг с другом, подпитывая, обогащая друг друга плодотворными идеями и замечательными художественными импульсами. Недаром самым популярным был журнал «Наука и жизнь», которым зачитывались и технари, и гуманитарии. Но и чисто литературные журналы выходили огромными тиражами, и в библиотеках институтов и КБ на них записывались в очередь. Корпус советских инженеров в пять раз по численности превосходил американский. Научно-технические работники, ученые были основными потребителями духовной продукции. Для этой высококультурной аудитории творили поэты и писатели, художники и композиторы, историки, философы, кинематографисты…
Особенными оазисами науки и культуры были «академгородки» в Новосибирске, Иркутске, Томске, Красноярске и Киеве, где были собраны высокие умы и создана специфическая духовная среда. Эти форпосты российской науки сохраняли и развивали ее лучшие традиции.
Наряду с этими гигантами были десятки закрытых специализированных городов поменьше, но также обильно укомплектованных научными кадрами (потом их назвали наукоградами). Связанные в свое большинстве с ВПК, они имели независимую инфраструктуру и прямую государственную поддержку.
Оглядываясь сегодня назад, мы поневоле воспринимаем, что эпоха, оклеветанная как «застой», была на самом деле расцветом?! [1]
Второе обезглавливание России
В 1990-е годы из нашей страны побежали интеллигенты – образованные люди, специалисты, профессионалы высокого и очень высокого уровня. Началось второе за сто лет обезглавливание русского народа, уничтожение его элиты (первым была русская эмиграция после Октябрьской революции). Проблема «утечки умов» носит в постсоветском обществе затяжной, хронический характер. Мы имеем дело с непрерывным процессом миграции, вектор которого направлен и в будущее (по опросам, до 50% молодежи хотели бы продолжать образование за рубежом).
Воистину, мы попали в ситуацию, когда «иных уж нет, а те – далече». Это явление, именуемое в мире обычно «утечкой мозгов», приводит наш народ к трагическим последствиям, напрямую угрожая его будущему.
Отток нехудших, скажем так, кадров интеллигенции достиг критических объемов – за период с 1991г. около 1,3 млн. российских граждан получили официальное разрешение для выезда на постоянное жительство за пределы родины.
Некоторые отрицательные последствия этой «утечки» видны уже сейчас. Уровень умственного бытия России упал, появились признаки одичания. Если после Октябрьской революции в России, все же, оставались творческие силы, создавшие выдающиеся произведения в литературе, живописи, кино, науке, то с 1991 года у нас не появилось ни одного подлинно великого произведения литературы, ни одного фильма или спектакля, ставшего событием интеллектуальной и художественной жизни! (Если не считать выдающихся гадостей, вроде спектакля «Дети Розенталя» в Большом театре по Владимиру Сорокину.) Одни римейки, да экранизации, в лучшем случае…
Да и сама атмосфера духовной жизни с ароматом гнильцы, исполненная отчаяния и цинизма, производит удручающее впечатление и способна скорее подавить, чем стимулировать «души прекрасные порывы».
Кого мы теряем
Только в 1990-2003 гг. численность занятых в научно-технической сфере сократилась в РФ почти в 2 раза – с 1943 тысяч до 858,5 тысяч человек. Число исследователей за тот же период снизилось с 992,6 тысяч до 409,8 тысяч человек, или на 59%, достигнув уровня 35-летней давности.
Не все они выехали за границу – основная масса просто подалась в те виды деятельности, которые не соответствуют их образованию и профессиональной квалификации. По оценкам экспертов, соотношение внутренней и внешней эмиграции составляло в 1992–1993 гг. приблизительно 10:1. Это не столько «утечка», сколько бездарная «потеря мозгов».
А на Запад уехало около 200 тысяч специалистов, что тоже чрезвычайно много, учитывая штучный характер этих незаурядных людей. Обществоведы и гуманитарии составляют лишь 6,1% этого потока. Западу нужны, в основном, вовсе не носители русской ментальной традиции. Там предпочитают адептов точного знания, как фундаментального, так и прикладного. Особо ценятся программисты, биотехнологи, молекулярные генетики, реставраторы.
В частности, 33,6% потока российских ученых, направляющихся за рубеж составляют физики, 22,8% приходится на биологов, 12,7% – на специалистов в технических науках, 9,3% – на математиков, 6,1% – на химиков. Особенно ценятся те, кто уже доказал свою состоятельность в науке. Среди российских ученых, выезжающих на работу или стажировку за границу, 18% имели степень доктора и 55,8% – кандидата наук. Едут, в основном, специалисты из главных научных центров – Москвы и области, Петербурга и области, Новосибирска (74% отъезжающих).
Едут, главным образом, в Северную Америку (30,4% интеллектуальной миграции) и Западную Европу (42,4%).
Появилась и такая разновидность утечки умов, как утечка идей. Многие ученые, живущие в России, работают по различным научным программам, осуществляемым в интересах зарубежных заказчиков. Другой скрытой формой утечки мозгов является наем на работу лучших российских специалистов иностранными компаниями, находящимися на территории России. Таким образом, эти ученые и специалисты «эмигрируют», не выезжая за границу, а результаты их исследований становятся собственностью иностранного работодателя.
«Сегодня число занятых в науке в России составляет порядка 40 % от уровня 1990-х годов», – отмечает министр образования Д. Ливанов.
Согласно данным фонда «Открытая экономика», отъезд российских учёных за рубеж не только не уменьшается, но существенно возрос за последние годы. Анализ показал, что более 50 % публикаций российской научной диаспоры идут из США. При этом наиболее цитируемые российские учёные также работают в США — на их долю приходится 44 % всех ссылок (период после 2003 года). В то время как на долю русских учёных, работающих в России, приходится всего 10 % ссылок.
Особенностью наших дней является то, что на смену «отъезжантам» различных национальностей (скажем, в начале 1990-х абсолютное большинство уезжало по израильской визе, много уезжало немцев, армян и др.) в наши дни пришли русские люди, расстающиеся с родиной. Начиная с 2006 г. доля этнических русских среди эмигрантов превышает 50%, в то время как в 1993 она составляла лишь 24%.
Другая особенность – массовый отъезд молодежи, абсолютное большинство которой уже не вернется в Россию. Временный выезд на учебу, стажировку или работу с последующим изменением статуса стал основным каналом интеллектуальной миграции на Запад. Обучающихся на Западе российских студентов сегодня – от 35 тыс. до 50 тыс. человек. Это, как правило, юноши и девушки, чьи способности выше среднего — более 4000 человек в год. По опросам, свыше 40% нашей молодежи мечтает о карьере за рубежом.
Не всем уехавшим на Запад обеспечена легкая благоустроенная жизнь. Таких, в целом, не более 10% от приехавших: элита академического мира. Большинство же – это люди, которые не имеют постоянных ставок и находятся в уязвимом положении. На то, чтобы полностью интегрироваться в местную систему и добиться высокого статуса, уходит не менее десяти лет напряженного труда.
Почему же, однако, они не едут обратно?
Что их гонит и почему не возвращаются?
О чем свидетельствуют опросы? Каковы мотивы эмиграции и невозвращения, по словам самих отъехавших?
Можно выделить три группы побуждений.
На первом месте социально-экономические факторы – нестабильность экономической ситуации в России, отставание ученых по зарплате, темпам карьеры и уровню социальной защищенности, отсутствие у них социальных гарантий, особенно в пенсионном возрасте. «Высокая» зарплата доктора наук, профессора в Москве – 25 тысяч рублей или 800 долларов, но это предельно унизительная цифра, особенно на фоне «заработков» футболистов или шоуменов. Отсюда – недоверие к государству.
Многие добавляют сюда низкое качество (и высокую стоимость!) медицинских и юридических услуг, неоправданную дороговизну жизни, суровость российского климата, экологические проблемы (с питьевой водой и чистым воздухом, вообще средой обитания), транспортные проблемы, наплыв мигрантов, а пуще всего – высокий уровень преступности и отсутствие гарантий личной безопасности.
Кто-то скажет, что это все мотивы низкого, земного, сугубо материального плана. И в этом будет доля правды. Недаром эту, «четвертую», волну российской эмиграции именуют обычно экономической (в просторечии – «колбасной», хотя колбаса в России давно уже в достатке всех сортов). Перед нами яркое свидетельство отмирания особого типа личности – русского интеллигента, для которого характерным было всегдашнее предпочтение духовного материальному. Не случайно аналитики отмечают устойчивую модель карьерного роста, сложившуюся у русских: деревня – город – большой город – заграница. Так склонны выстраивать сегодня свое будущее крестьянские дети России.
Однако не все так просто. Есть и духовный мотив эмиграции, т.н. «академический фактор» – значительное отставание России от Запада по техническому и материальному обеспечению научных исследований. Затраты на исследования и разработки в расчете на одного исследователя в России в 10 раз ниже, чем в США. Нашим не хватает современного оборудования, лабораторий. Добавим сюда оторванность от мирового академического сообщества, коррумпированность и бюрократизм академического управленческого аппарата… Все это препятствует полноценному раскрытию личности ученого, его творческой состоятельности.
Как выразился самый молодой лауреат «нобелевки» и член Лондонского королевского общества, физик, сэр (!) Константин Сергеевич Новоселов, 1974 года рождения: «Если бы мне сделали интересное предложение по работе в России, возможно я бы и вернулся. Хотя… нет, всё-таки вряд ли. Дело в том, что организация работы в той же Англии намного проще и прозрачнее, чем в России или, скажем, в Германии. Дело не только в деньгах».
Наконец, существует и политический фактор, традиционно значимый для интеллигенции, неспособной полноценно жить и работать при нехватке – истинной или мнимой – прав и свобод. Слабость гражданского общества, засилие глупости и пошлости в СМИ, в т.ч. государственных, отсутствие свободы самовыражения, сознание хронической незащищенности, униженности, зависимости, ощущение бесперспективности и скуки, фактическая цензура (список т.н. «экстремистской» литературы за считанные годы втрое превысил знаменитый список отреченных книг Ватикана, составлявшийся пятьсот лет) – все это многих побуждает к отъезду.
Сказывается и острейшая нехватка патриотического воспитания в школьной и студенческой среде.
И, конечно, принципиальный отказ от какой-либо государственной идеологии, да еще закрепленный в Конституции России, порождает у людей ощущение бесперспективности нашей страны, не знающей и знать не желающей, куда она идет. И соответственно, желание съехать туда, где есть осмысленное движение к поставленным целям.
Война за кадры, или Горе побежденным
Отъезд российских ученых за рубеж – результат не только личного выбора.
Операция по выкачиванию мозгов из России была спланирована сразу по окончании холодной войны.
Тогда в российской военной сфере в начале 1990-х гг. было занято около 100 тыс. специалистов. Носителями секретной информации являлись примерно 10-15 тысяч, а сведениями особой важности владели 2-3 тыс. человек. В стране царил хаос, и многие наши ученые в 90-е были готовы работать с кем угодно и продать свои идеи за кусок хлеба. Сегодня уже имеет смысл пересмотреть понятие «бывшие учёные-оборонщики», поскольку к 2013 г. большинство из тех, кто в СССР выполнял НИОКР оборонного профиля, стали пенсионерами. Однако в 1990-е годы это было не так.
Для «утилизации секретных физиков» Запад (а также Япония с Южной Кореей) создал в России ряд международных центров «помощи» учёным и специалистам. «Утечка умов» и деятельность в России зарубежных фондов – неразделимы. До сих пор гранты и стажировки за рубежом являются первым шагом к фактической эмиграции. Чем период стажировки дольше, тем больше вероятность того, что учёный не вернётся в Россию. Это, в частности, показывает статистика грантополучателей Национального научного фонда США
Крупнейшими спонсорами российской науки были три организации –Международный научный фонд Сороса, МНТЦ и ИНТАС.
Справка
1. Международный научный фонд (МНФ, основан в 1992 году) действовал в течение четырех лет (1993–1996 гг.), однако пришлись они на один из наиболее трудных периодов для российской науки. При этом финансирование, выделенное за четыре года, до сих пор остается самым большим вкладом в поддержку российской науки, если сравнивать его с вложениями других организаций и фондов за аналогичные периоды времени. Отчаявшиеся учёные, забыв про правила соблюдения секретности, раскрывали многие идеи и разработки, заполняя подробные анкеты для базы данных фонда. Впоследствии фонд Сороса был выкуплен Михаилом Ходорковским.
2. Международный научно-технический центр (МНТЦ, 1992 – 2010) – International Science and Technology Center (ISTC).
Идея создания МНТЦ зародилась в 1992 г., когда руководители внешнеполитических ведомств России, Германии и США достигли договоренности о начале финансирования конверсионных исследований. Тогда же были определены те специальности и области разработок, которых коснулась совместная инициатива. Поддержку должны были получить конверсионные исследования в тех российских институтах, которые ранее были заняты ключевыми высокотехнологичными оборонными разработками в области оружия массового поражения (ядерного, химического, биологического) и наземных средств их доставки.
В ноябре 1994 г. был учрежден МНТЦ. Центр является межправительственной организацией, которая в настоящее время включает в себя представителей России, Европейского Союза (ЕС), Швеции, США, Канады, Норвегии, Южной Кореи и Японии.
Целями деятельности МНТЦ были: 1) переориентация учёных, которые располагают знаниями и навыками в области оружия массового поражения и средств его доставки, на выполнение гражданских исследований и разработок; 2) поддержка фундаментальных и прикладных исследований, содействие решению национальных и международных технических проблем; 3) поддержка перехода к рыночной экономике и интеграции бывших учёных-оборонщиков в мировое научное сообщество.
За всё время работы МНТЦ в поддержанных им проектах и мероприятиях приняло участие более 58 тысяч учёных из бывшего СССР, представлявших 765 научных организаций. Многие не вернулись из-за рубежа.
В 2000-е годы в среднем фонд тратил в год около 50 млн. долл.
3. Ассоциация ИНТАС (1993-2007 гг.), Международная ассоциация содействия кооперации с учёными из Содружества независимых государств бывшего Советского Союза (International Association for the promotion of cooperation withscientists from the independent states of the former Soviet Union – INTAS) была зарегистрирована в 1993 г. как международная некоммерческая организация, действующая в соответствии с законодательством Бельгии. По бельгийским законам подобная ассоциация (или фонд) могла быть только частной. В результате ИНТАС юридически частный фонд, но с доминирующим государственным финансированием. Учредителями ИНТАС стали 15 стран – членов Европейского Союза (ЕС), а также Норвегия и Швейцария. В настоящее время 33 государства являются членами ИНТАС. Более 90% бюджета ассоциации составляют средства Европейской Комиссии (ЕС), остальное дают общественные и частные источники. Начиная с 1995 г. Европейская Комиссия возглавляет Ассамблею ИНТАС. Комиссия может наложить вето на любое решение Ассоциации. Таким образом, государственные интересы стран-членов ЕС приобрели большее значение в процессе принятия решений.
Целями деятельности ИНТАС являлись: 1) оказание помощи учёным бывшего Советского Союза; 2) содействие развитию кооперации в области научных исследований и создания технологий между учёными СНГ и исследователями из стран Западной Европы. Направления деятельности ИНТАС и их детализация были заимствованы из другой, реализовывавшейся ранее общеевропейской программы – «Мобильность человеческого капитала» (Human Capital Mobility).
В 2007 г. ассоциация прекратила распределение грантов.
* * *
Очевидно, что эти два явления – «утечка умов» и деятельность в России зарубежных фондов – неразделимы. Во многом благодаря фондам российская наука, как и промышленность, превратилась в придаток западной.
Государственный ущерб
Ущерб, который терпит Россия от «утечки мозгов», не поддается учету.
Для примера: еще десять лет назад доход США от торговли патентами и лицензиями был в 2,3 раза выше, чем от торговли товарами и услугами, и с тех пор эта пропорция только растет. По некоторым данным, вклад русских профессионалов в формирование этого дохода составляет около 30%.
Доход России от умственной деятельности русских ученых мог бы быть сопоставим с доходом от нефтяной и газовой трубы. Пренебрежение этим доходом – величайшая бесхозяйственность.
Но дело еще и в том, что эмиграция наших способных и образованных специалистов – это еще и элемент системы торговли людьми, от которой мы терпим прямой убыток. Ибо немалые средства, затрачиваемые Россией на подготовку научных кадров, попросту присваиваются принимающей стороной, в частности США и Европой. По словам ректора Российского Нового университета Владимира Зернова, «если бы те специалисты, которые выехали за границу начиная с 70-х годов, готовились в университетах США и Западной Европы, то на их подготовку пришлось бы потратить более $1 трлн. Также следует указать, эти данные никак не учитывают потери от оттока ноу-хау». По некоторым оценкам США от привлечения одного учёного-гуманитария выигрывает около 230 тысяч долларов, инженера – 253 тысячи, врача – 646 тысяч, специалиста научно-технического профиля – 800 тысяч. А вот Московский Государственный университет на подготовку одного специалиста мирового класса тратит около 400 тысяч долларов.
Колоссальные расходы государство несёт также при «внутренней» утечке мозгов, когда российский специалист живёт в России, но работает на западные компании или по международным грантам. Потери от такого сотрудничества ежегодно составляют около 600-700 миллионов долларов в год. А от того, что наши производители интеллектуальной продукции не умеют её продавать и прибегают к помощи американских или европейских посредников, ежегодные потери составляют около 3-4 миллиардов долларов.
И это не просто выброшенные нами на ветер деньги.
Двести тысяч уехавших из России научных работников – много это или мало? Безобразно много, если иметь в виду, что интеллигент – продукт штучный.
Ведь есть немало примеров, когда умственный труд одного-единственного человека изменял ход истории. Так, изобретенный в 673 г. сирийским архитектором Каллиником так называемый «греческий огонь» (настоящий напалм средневековья), позволил на много столетий отсрочить роковой конец Византийской империи. А изобретение немецким гением Иоганном Гутенбергом подвижного шрифта вообще переломило вековое противостояние мировых цивилизаций и вывело Европу в безусловные лидеры прогресса вплоть до наших дней.
Между тем, среди отъехавших на Запад российских ученых появились уже и нобелевские лауреаты: например, упомянутый физик Константин Новоселов совместно с Андреем Геймом.
Иногда приходится слышать: в эпоху глобализации-де не имеет значения, где, на каком континенте проживает русский ученый, работающий на благо человечества. Ведь мир-де един, едино информационное пространство, а значит, плодами его трудов в конечном счете воспользуемся и мы, русские, Россия.
Рассуждение наивное до преступного, ведь бесплатных пряников не бывает. Кначалу XXI столетия доля России в производстве мировой высокотехнологичной продукции составляла менее 1 % по сравнению, скажем, с долей США (36 %). В результате мы вынуждены платить американцам и европейцам за те самые патенты и лицензии, за которые они платили бы нам, не упусти мы такую возможность вместе с уехавшими от нас учеными. Об удельном весе интеллектуальной продукции в формировании бюджета сказано выше…
В итоге, снабжая своими лучшими кадрами страны Запада, выступая в роли поставщика научного сырья и кадров, мы не только упускаем свою выгоду, но и укрепляем экономику и оборону наших потенциальных противников и конкурентов.
Проблема еще и в том, что если кто-то из кадров и возвращается, они возвращаются уже другими людьми. Американская политика в сфере образования направлена на то, чтобы даже вернувшись, бывшие студенты или аспиранты оставались носителями американской политической культуры и идеологии, проводниками и агентами американского образа жизни, лояльными по отношению к США. А это прямая угроза для политического здоровья России, имеющей иные основы жизни, иные исторические традиции.
Общественный ущерб
Но, может быть, самый страшный ущерб из-за отъезда за рубеж талантливых, одаренных специалистов терпит даже не государство с его бюджетными и оборонными интересами, а все наше общество, все мы.
Ущерб этот в том, что вся умственная и духовная атмосфера нашей жизни с каждым отъезжающим становится более серой, убогой, бедной, инертной, бесцветной и бездарной. Она не сверкает искрами ума и вдохновенья, не индуцирует творческий подвиг. Налицо приметы варваризации, дегуманизации, дурного опрощения.
Нельзя не заметить, что непоправимо страдает и русский генофонд, который, вопреки расхожим верованиям, вовсе не является неисчерпаемым. Последствия первой эмиграции, унесшей за рубеж цвет русской нации, рощенный тысячу лет, мы ощущаем как непоправимую потерю до сих пор.
Помните, как сказал Христос: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою»?
Сегодня второй раз за сто лет с нами происходит подобная трагедия.
Чем возместим мы эту нашу потерю? Таджикскими разнорабочими? Узбекскими дворниками? Молдавскими строителями? Но ведь хорошо известно: от осинки не бывает апельсинки!
Над русским народом нависла зримая угроза деградации, вырождения.
С этим надо что-то делать!
Что?
Сколково спасет? *
Нельзя сказать, что проблема «утечки мозгов» не привлекает внимания президента и правительства. В 2000-е годы в России началась программа развития т.н. наукоградов на базе советских закрытых спецпоселений и других научных и научно-производственных центров. 14 городов получили статус «наукоград», ещё около 70 заявили о желании получить этот статус. В 2006 году федеральный бюджет выделил на развитие статусных наукоградов 0,8 млрд руб., в 2009 году — 1,5 млрд руб.
Однако уже к концу 2009 года «Союз развития наукоградов» констатировал, что правительство оказалось непоследовательным в реализации идеи наукоградов.Не бросая её, оно параллельно начало развивать другие. С 2005 года в стране создаются особые экономические зоны технико-внедренческого типа (ТВЗ). В 2006 году была учреждена государственная «Российская венчурная компания» с уставным капиталом 28,2 млрд руб. С 2006 года делаются попытки реализации идеи технопарков в сфере высоких технологий, но к середине 2009 года ни одного технопарка создано не было. В 2007 году правительство выделило 160 млрд руб. на строительство семи академгородков. В 2010 года было предложено также создать в России Центр управления передовыми и рискованными разработками (аналог американской DARPA).
Наконец, в декабре 2009 года президент Дмитрий Медведев заявил о необходимости создания отечественного современного технологического центра по примеру Силиконовой долины (США) и других мировых аналогов. В марте 2010 года стало известно, что местом дислокации иннограда станет подмосковное Сколково, на развитие которого до конца 2010 года выделяется 4 млрд руб., а для резидентов иннограда устанавливаются существенные налоговые льготы.
Таким образом, на новый проект сразу же было выделено средств почти в три раза больше, чем на все наукограды, вместе взятые в предыдущем году.
Насколько оправдан такой дисбаланс?
Определенный скепсис связан с тем, что разными странами уже предпринимались подобные попытки создать накие аналоги американской Кремниевой («Силиконовой») долины в Калифорнии. Такие проекты развивались в Индии (Бангалор), Тайване (Синьчжоу), Малайзии (Киберджайя).
И что же? Все эти проекты столкнулись с одной и той же проблемой. Беда в том, что уровень промышленности в указанных странах, ее потребности гораздо ниже тех возможностей, что сосредоточились в названных научных центрах. Отсутствие реального спроса на супервысокотехнологичные разработки, отсутствие необходимой инфраструктуры сделало эти центры бесполезными для экономики своих стран. А это повлекло за собой полнейшее ориентирование на внешние рынки, научное обслуживание экономик развитых стран. За сравнительно низкую оплату. Результат – та же утечка мозгов, только не сходя с места. И эксплуатация сильными странами слабых, только уже в чисто интеллектуальной сфере.
Не получится ли так же и в России?
На словах нам сулят золотые горы. Население Сколкова должно составить около 40 тысяч человек, среди них, по обещаниям организаторов, в скором времени должны жить три-четыре нобелевских лауреата. Реклама этого проекта вызывает некоторое недоумение:
1. Чьи запросы, чьи интересы будет обслуживать Сколково? Станет ли оно работать на нужды российской науки и промышленности, будет ли локомотивом отечественной индустрии – или станет обеспечивать заказы зарубежных работодателей? В последнем случае оно только усугубит наши проблемы, поставит нас в положение наемников умственного труда или «умных рабов».
2. Сколково – замкнутая система, она не экстраполирует свои правила игры на все общество, которое ничего не выигрывает от того, что где-то за непроницаемой стеной собралась кучка высоколобых наемников. Будет ли установлена обратная связь Сколкова с обществом? Не превратится ли оно в подобие тайной лаборатории алхимиков, вроде той, что устроил некогда император Рудольф Второй на знаменитой Золотой улочке в Праге? О «золотой трассе» в Сколково нам уже довелось услышать…
3. Сегодня у многих создалось впечатление, что плодотворная идея наукоградов тихо умирает в условиях финансовой заброшенности. Как соотносится проект Сколкова с воссозданием системы наукоградов России? Каким представляется баланс в системе госфинансирования Сколкова – и других наукоградов?
* О “чудодейственном” Сколково можно прочитать материал НД
Другие возможности
Конечно, есть и другие возможности если не выправить до конца ситуацию с научными кадрами и не вернуться к положению дел в 1980-е гг., то по крайней мере смягчить последствия случившегося.
К примеру, надо использовать приемы Запада против него и предложить работать по нашим заказам той российской научной диаспоре, что образовалась в США и Европе. Коль скоро они не собираются возвращаться в Россию, пусть у них будет приработок от родины, а у нас – возможность косвенно использовать всю мощь научной базы нашего потенциального противника.
Не стоит упускать также возможность использовать наших ученых за рубежом в качестве механизма «мягкой власти», агентов российского влияния на Западе и в любых других странах приема. Недаром в Китае есть термин «хуацяо» – «мостик» – для китайской диаспоры во всем мире…
Разумеется, большую пользу могли бы принести наши ученые, работающие «там», если бы наладить систему их приездов в Россию с лекциями научно-методического характера, помогающими обустроить нашу академическую систему.
Возможно, со временем все так и будет. Сейчас же ситуация у нас явно по пословице: «Уехал Трофим – и хрен с ним».
Но все эти предложения не более чем паллиатив.
Главную проблему – проблему интеллектуальной среды в самой России – решить подобными методами невозможно.
Для этого надо менять концепт самой России.
Резюме
На первый взгляд, проблема утечки мозгов – вполне вненациональная.
Но давайте спросим себя: к чему в политике должен стремиться русский интеллигент, какой строй сознательно утверждать и создавать? Какая Россия нам нужна?
Ясно, что сердцу русского интеллигента близко национальное государство по форме и технократическое (передовое, прогрессивное) общество по содержанию.
Надо четко осознать и обозначить приоритеты. Для прорыва в постиндустриальное общество, для занятия в нем командных высот государство Россия должно определить как привилегированный (и правящий) класс – технократию, и все усилия народа направить на создание ей оптимальных условий для творчества. Не футболист и не боксер, не полицейский и не чиновник, не эстрадная дива и не гламурный шоумен должен стать героем нашего времени, а ученый, творец, интеллектуальный подвижник!
Нельзя забывать ни на минуту, что главная производительная сила современности (и обозримого будущего тоже) – это наука. Уже сегодня она кормит, одевает и духовно обеспечивает человечество, в том числе рабочих, крестьян, военных и гуманитариев. А наука, в т.ч. технологии, – в головах технократов.
Надо, чтобы все сословия и классы в России поняли необходимость первоочередного обеспечения именно технократов всем лучшим, что у нас есть, осознали естественность их привилегий и прерогатив. Крестьяне должны кормить технократов, рабочие – делать для них необходимую продукцию, военные – защищать их, гуманитарии – развлекать, дарить духовные импульсы, будить творческую мысль, предприниматели – вкладывать в них деньги. Все это стократ окупится для каждого!
Это – и только это! – подхлестнет эволюцию, направит ее по верному пути.
И тогда мы окажемся в новой России, откуда цвет нации не захочет уезжать.
[1] При всём уважениии к Александру Никитовичу Севастьянову, как к ветерану Русской Идеи коллектив радакции НД совершенно не разделяет тезис автора о каком бы то ни было расцвете в эту эпоху. На наш взгляд брежневщина является как бы “угаром” реал-социализма по аналогии с “угаром” НЭПа в конце 20-х годов прошлого века. Такие же черты пораженческо-разложенческой “угарности” несёт в себе и сегодняшнее время заката доморощенного либерализма. Благоприятная духовно-нравственная и интеллектуальная атмосфера, о которой пишет автор действительно имела место в некоторых (не во всех!) кругах советской интеллигенции БЛАГОДАРЯ силе исторической инерции и ВОПРЕКИ брежневщине и всему тому, что происходило с нашим многострадельным Отечеством с 1917 года…