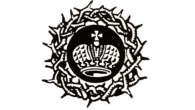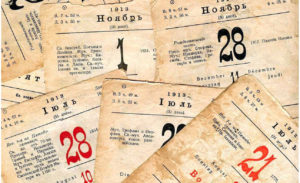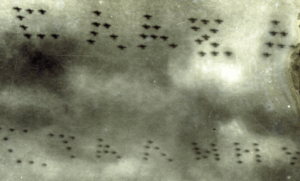Москва, 15 февраля – Наша Держава (Татьяна Миронова). В архетипах русского мышления жизнь человека от рождения до смерти оценивалась как путь, как движение, осмысленное или бессмысленное, направленное или хаотическое, но непременно движение. Не случайно христианские проповедники говорили о путешествии человека по морю житейскому, а само слово море по-гречески, к примеру, звучало как понт, то есть наш русский путь.
Древние индоевропейские народы передвигались на далёкие расстояния в основном водным путём, отсюда неслучайные соединения в языках: море греческое — это путь по-русски, reid иraid в германских языках, означающие езду, однокоренные русской реке. А индоевропейское слово berg-берег созвучно и односмысленно русскому беречь,то есть спасаться от невзгод на берегу житейского моря.
Каковы же русские представления о пути жизни, о дорогах, сопутствующих нашему бытию? Ведь именно ими определяется русский смысл жизни.
В Словаре Владимира Ивановича Даля путь означает всякую дорогу, ездовую накатанную полосу, ходовую тропу. Всякому встречному радушно желают: Путь-дорожка! Счастливого пути! Однако как это всегда бывает в языке, слово путьимеет и более общий смысл: это способ достижения, направление движения — путь человеческой жизни, направляемый Богом. Поэтому мы говорим: Пути Божии неисповедимы. Поэтому старшие наставляют младших: Ходи всегда путём правды. На путь истинный мы наставляем, когда разумеем пользу, разумность, толк человеческой жизни. От путей неправедных предостерегаем детей: В этом деле пути не видится. Делаешь не путём. Человек у нас именуется непутёвым, если по неразумию не имеет заботы о смысле своей жизни, или беспутным, если сознательно отказывается следовать по жизни прямым и честным путём.
С представлением о прямом пути связана русская идея праведной жизни — жизни путной, осмысленной, пройденной с пользой. Это жизнь по Божьим заповедям: За Богом пойдёшь — добрый путь найдёшь, это жизнь по заветам отцов:Слушайся добрых людей, на путь наведут. Правило не дорожное, а жизненное, которым наставляли свою молодёжь русские люди, состояло в том, что не ищут дороги, а спрашивают. Ведь дорóгой традиции, дорóгой обычая проходило и проходит каждое новое поколение нации. Само слово обычай — означает нечто навек установленное, чему люди обыкли, или навыкли, то есть научились. Обычаям надлежит учиться, чтобы их исполнять.
И ещё одно важнейшее представление о правильном пути человеческой жизни коренится в архетипах мышления русского человека: Нужный путь Бог правит. Бог пути кажет. Это очень важно для всякого колеблющегося, для нерешительных и робких это спасительная мысль, заставляющая собираться с силами, сосредотачиваться и двигаться — вперёд!
Мы не всегда отдаём себе отчёт, как много в нашей нравственной жизни связано с представлением о пути-дороге. Ведь что такое наши поступки — это поступь по дороге жизни. Мы привычно говорим: войти в сделку, вступить в договор, следовать советам старших, а ведь в основе всего этого лежит идея следования, вхождения, поступи. Отец ведёт за собой детей, муж — жену, оттого она издревле называлась водимою, и смотря по тому, как люди шествуют за своими вожатыми, составлялся приговор об их поведении, и само поведение наших близких, выходит, зависит не только от водимого, но и от ведущего. Нарушение уставов и законов мы называем проступком, преступлением, и действительно с этими словами соединена идея совращения с настоящей дороги и переступания законных границ: кто не следует общепринятым обычаям, тот человек беспутный, непутёвый, заблудший. Сбившись с дороги, он осуждён блуждать по сторонам, идти не прямым, а окольным, кружным путём. Сама же дорога — жизненный путь воспринимается русским мышлением как путь прямой, свернуть с него — значит блуждать кривыми дорожками, развращённым называли человека, отвратившегося от прямого пути.
Напомню ещё одно суеверие, связанное с дорогой и хорошо знакомое всем нам. Как обломок древних инстинктов сохранилась примета: если собрался на какое-то дело, возвращаться нельзя, успеха не будет. За древним поверьем стоит запрет на всякое движение вспять, а следовательно, мощный позыв к продвижению вперёд — и только вперёд. Возможно, этот инстинкт руководил продвижением нашего народа на Север и в Сибирь, на Дальний Восток и Аляску. Именно этот инстинкт — запрет на возвращение породил великую державу на шестой части суши. Отвращение к движению вспять, пока не достигнешь поставленной цели, лежит в основе открытий русских путешественников, освоения новых земель, вообще в основе интереса ко всему новому и неизведанному. И этот инстинкт столь живуч, что окаменел в суеверии, нарушать которое и сегодня решается далеко не всякий.
А выражение перейти кому дорогу до сих пор употребляется в смысле — повредить успеху, заградить путь к достижению задуманной цели. Отсюда примета — тому, кто отправляется из дому, не должно переходить пути; если же это случится — не жди добра. Встречный-поперечный, встав поперёк дороги, даёт понять — это моя земля, двигаться дальше нельзя. Сохранившееся в суеверии представление влияет на людей, которым переходят дорогу, предупреждая о трудности предстоящего пути, обещает, что путь будет связан с препятствиями.
Вспомним ещё одну трогательную русскую примету: в тот день, когда уезжает кто-нибудь из родичей, в доме обычно не метут полов, чтобы не замести ему следа, по которому он бы мог снова возвратиться под родную кровлю. Как метель и вихри, заметая проложенные следы и ломая поставленные вехи, заставляют плутать дорожных людей, так издревле думали, что уничтожая следы отъехавшего родича, можно помешать его возврату. Русские люди бережно хранят память об ушедшем страннике, свято веря в его возвращение.
А ещё наш язык уподобляет дорогу разостланному холсту: и доныне говорится —полотно дороги. Народная загадка ширинка — всему свету не скататьразумеет дорогу. И недаром существует обычай: когда кто-нибудь из членов семейства уезжает из дому, то остающиеся махают ему платками — чтобы путь лежал скатертью, так и говорится — скатертью дорога, дабы путь был ровен и гладок.
Архетип мышления, что жизнь — это путь и поэтому движение неизбежно, двигаться надо, следовать путями жизни так или иначе придётся, заставлял русского человека торить новые стези. На этих стезях соблюдали здравомыслие и осторожность: тише едешь — дальше будешь, хотя всё равно побеждали непоседливость и рисковость: ведь стоячая вода гниёт, под лежач камень и вода не течёт, а камень лёжа мохом обрастает.
 Вековечная русская мечта — увидеть край света, то место, гдесвет клином, — гнала наших предков из дому. Необъятная наша Русь делала дороги неизбежной частью жизни. Домоседство русскому не свойственно. До сих пор уму непостижимо, как дерзновенно осваивали русские люди далёкие земли, им на своих ближних просторах было тесно, они искали воли, и шли в путь, и рисковали головой, и заселяли земли, которые назвали потом Великой Русью. Великую Русь могли освоить, сделать своей только великие люди, богатыри, волевые и сильные, расчётливые да приметливые, всегда готовые в путь.
Вековечная русская мечта — увидеть край света, то место, гдесвет клином, — гнала наших предков из дому. Необъятная наша Русь делала дороги неизбежной частью жизни. Домоседство русскому не свойственно. До сих пор уму непостижимо, как дерзновенно осваивали русские люди далёкие земли, им на своих ближних просторах было тесно, они искали воли, и шли в путь, и рисковали головой, и заселяли земли, которые назвали потом Великой Русью. Великую Русь могли освоить, сделать своей только великие люди, богатыри, волевые и сильные, расчётливые да приметливые, всегда готовые в путь.
Не зря только в русской земле с её психологией жизненного пути явилоськазачество. Казак — в переводе с тюркского бродяга. Говорили на Руси —казачьему роду нет переводу. Это о том, что были и будут у нас пассионарные, смелые и дерзкие любители вольной волюшки, не способные ходить под ярмом по кругу. Но то не азиатские скитальцы, не кочевники перекати-поле без роду-племени. Русские казаки — это люди, расширявшие границы нашего государства, бившие царю челом новыми землями. Ермак Тимофеевич, завоевав Сибирское ханство, покорив Кучума и договорившись с множеством мелких местных князьков об их подданстве, не сам взялся править покорённой землёй, он поклонился этой землёй Царю-Батюшке. Одна забота была у русского человека, торившего новые пути-дороги, — о родной земле, чтобы она, родимая, была просторнее, богаче, крепче, под одной могучей дланью.
Так что в наших архетипах мышления исконно заложено, что жизнь — это путь, не топтание на месте, не лежание на печи, а именно путь — движение к цели. Твёрдо усваивал русский человек, что путь жизни должен быть прямой, без кривизны и лукавства, иначе проживёшь как беспутный или непутёвый человек, забулдыга. С прямого пути нельзя сворачивать, ибо так уходишь от своей Богом назначенной судьбы. С пути нельзя возвращаться назад! Это ведёт к несчастью. Следовать по пути жизни — значит не искать его вслепую, а руководствоваться обычаями предков. Вот те черты, которые составляют цельную русскую натуру, таковы ключи, которые лежат в основе величия и размаха русского человека. Вот они — наши русские правила жизни: двигаться вперёд и прямо, не сворачивать на кривую дорожку, не переходить пути своему ближнему, никогда не возвращаться вспять, что значит — никогда не сдаваться.