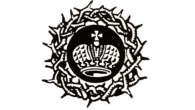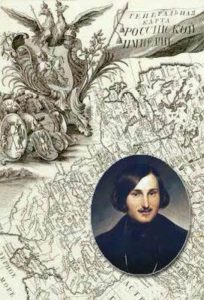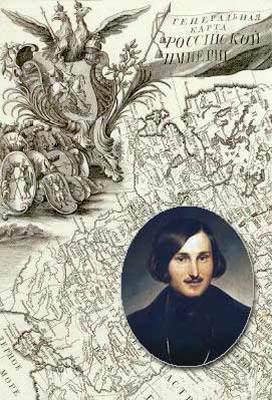
Москва, 5 марта – Наша Держава. К осознанию современности Гоголя зарубежный мир пришел после
длительного увлечения Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским, А.П. Чеховым –
художниками, которые продолжали гоголевские традиции в русской
литературе. Причины подобного запоздания не только в трудностях
перевода, но и в том, что именно в наши дни происходит осмысление роли
Гоголя в художественном развитии человечества, в освоении мировой
литературной мыслью темы «маленького» человека.
длительного увлечения Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским, А.П. Чеховым –
художниками, которые продолжали гоголевские традиции в русской
литературе. Причины подобного запоздания не только в трудностях
перевода, но и в том, что именно в наши дни происходит осмысление роли
Гоголя в художественном развитии человечества, в освоении мировой
литературной мыслью темы «маленького» человека.
«Маленький» человек у Гоголя нередко склонен порисоваться,
вообразить себя управляющим департаментом, испанским королем и пр. Это
не случайно, ибо только в своих иллюзиях он может на время избавиться от
комплекса социальной и психологической неполноценности. Мотив
гротескного, фантасмагорического превращения жалкого чиновника в
сверхчеловека, жаждущего мщения за свою приниженность и забитость,
прозвучит впоследствии в творчестве Достоевского – продолжателя
гоголевских традиций. И слова Поприщина: «Отчего я титулярный советник и
с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф
или генерал, а только так кажусь титулярным советником?» – вовсе не так
безумны и абсурдны.
Восприятие Гоголя за рубежом начинается с уяснения
художественного своеобразия и новаторской значительности повести
«Шинель». «Гоголь был хорошо знаком с бюрократической сферой, ибо он в
течение некоторого времени служил чиновником в Петербурге, – отмечал
критик М. Спилка. – Он был первым, кто начал с заботливым, тщательным
вниманием изображать убожество и банальность существования
незначительных официальных чиновников». «Рассказ мог быть назван “Я –
брат твой”, – утверждает другой западный критик Ф. О’Коннор. – С
блистательной смелостью Гоголь создал комическо-героический характер
маленького чиновника-переписчика и соотнес его с образом распятого
Христа, так что когда мы смеемся, знакомясь с историей его жизни, то в
нашем смехе проявляется нечто похожее на ужас».
Социально-этическая коллизия «Шинели» такова: жалкий чиновник,
одержимый своей мечтой, и противостоящее ему враждебное окружение
оказались в ХХ веке понятном и близком многим западным художникам. «Я
посетил много стран, – замечает В. Набоков, – и у многих знакомых
встречал страстную мечту, подобную той, которую лелеял Акакий Акакиевич,
причем никто из них никогда не слышал о Гоголе».
Об актуальности социально-этической коллизии «Шинели»
свидетельствует итальянский фильм, сделанный по мотивам повести в 50-е
годы ХХ века. Действие фильма происходит в одном из итальянских городов.
Главный герой – мелкий чиновник Кармине дель Кармине, мечтающий о
приобретении нового пальто. Пальто для него не просто одежда,
позволяющая спастись от зимней сырости, но средство самоутверждения.
Несмотря на определенную модернизацию классического произведения,
режиссер Альберто Латтуада сумел сохранить в фильме гоголевский пафос
сочувствия униженному и оскорбленному человеку, который, став жертвой
социальной несправедливости, в финале сходит с ума и умирает.
Своеобразным вариантом Акакия Акакиевича предстает Гомер Симпсон в
романе американского писателя Н. Уэста «День саранчи». И когда однажды в
ресторане его возлюбленная, молоденькая актриса Фей, измываясь над этим
безропотным существом, заставляет его пить коньяк, называя квашней,
размазней, кажется, что Гомер Симпсон вот-вот подымет голову и
произнесет голосом Акакия Акакиевича: «Оставьте меня! Зачем вы меня
обижаете?» Вместо этого герой мужественно захлебывается коньяком и,
стараясь поддержать общее настроение, просит официанта принести еще
порцию.
«Счастье» Гомера Симпсона длится недолго. Его, как и Акакия
Акакиевича, настигает беда: у него «крадут» возлюбленную. Известие о
том, что Фей Гринер изменяет ему с ненавистным мексиканцем, потрясает
его, приводит к духовному надлому и безумию. В его душе пробуждается
жажда мщения, и он, не помня себя, в порыве ярости накидывается на ни в
чем не повинного малыша, зверски избивает его до тех пор, пока
разъяренная толпа не захватывает Гомера Симпсона в свои смертельные
объятия. Гибель героя выглядит такой же нелепой, каким было его
существование.
Известный французский актер-пантомимист Марсель Марсо с большим
успехом показывал в театральном сезоне 1958–1959 гг. инсценировку
«Шинели», которая стала одним из самых ярких событий парижской
театральной жизни. Спектакль, несмотря на своеобразие интерпретации
Марсо, сохранил гоголевский гуманистический пафос. Экранизация спектакля
была с триумфом встречена во многих странах мира. Сам Марсо
признавался: «“Шинель” была первой мелодрамой, касавшейся подлинно
социальной проблематики. По сути дела, она была первой романтической и
классической мимодрамой, которую я поставил. Романтической по содержанию
и классической по форме». Гоголевское «Я брат твой» стало душой и
смыслом образа, созданного Марселем Марсо: артист вошел не только в мир
маленького чиновника из далекого Петербурга, он в чем-то выразил чувства
своего нынешнего «брата», обездоленного человека-труженика с его
томительными и пока тщетными поисками счастья. «“Шинель” Гоголя, –
подчеркивал Марсо, – стала красной нитью нашего театра… Благодаря
“Шинели” Гоголя появились “Пьеро с Монмартра”, “Три парика” и даже
“Маленький цирк” (вторая классическая работа театра)».
Тема разлада между мечтой и действительностью не была новой для
мирового искусства. Ее можно обнаружить у романтиков, например у
Гофмана, которого по праву часто сравнивают с Гоголем. Однако если в
«Золотом горшке» конфликт между мечтой и действительностью разрешается в
сказочно-фантастических формах (волшебные чары зла рассеиваются, и
Ансельм находит счастье с Серпентиной. – Авт.), то в «Невском проспекте»
конфликт этот разрешается в реалистической манере. Здесь нет злых и
добрых волшебников. Иллюзии художника Пискарева и их крах
обусловливаются самой сущностью города, за блестящим фасадом которого
обнаруживаются бедность, пустота и ничтожество. Говоря об этом, В. Эрлих
приходит к выводу, что трагедия гоголевского героя порождена
абсурдностью человеческого существования. «Абсурдность жизни, которая в
Миргороде едва получила свое гротескное выражение, – пишет он, –
превращается в Арабесках в бестолковую неразбериху». «Бессмысленность
мира, – заключает критик, – эти кафкианские слова могли быть
гоголевскими».
Подметив тенденцию Гоголя вскрывать пустоту и бессмысленность
определенных форм жизни, В. Эрлих и А. Перри не замечают, что у Гоголя
жизнь абсурдна не сама по себе. Бессмысленна жизнь бездуховная,
мелочная, обывательская. Не принимая во внимание этого, казалось бы,
очевидного факта, критики объявляют Гоголя предшественником Кафки,
писателем, который якобы предвосхитил многие экзистенциалистские
построения. Критики упускают из вида существенную особенность
творческого метода Гоголя, а именно: смысловую функцию его юмора,
представляющую мощное оружие в борьбе с бездуховностью, нелепостью
обывательского существования. «Такой современный писатель, как Кафка,
стар и в своей сущности, и в технике. В то же время художники прошлых
времен, скажем Гоголь, оказываются чрезвычайно современными», – считал
Джеймс Перри.
Другое немаловажное обстоятельство, обусловливающее особенности
восприятия Гоголя в мире, имеет свои объективные предпосылки. Некоторые
зарубежные критики и художники, акцентирующие внимание на комической и
гротескной нелепости многих гоголевских ситуаций и сцен, находят
разнообразнейшие проявления бессмысленности вокруг себя, в окружающем
мире. Психологическая и социальная атмосфера, в которой живут и творят
эти деятели искусства, имеет много общего с гротескно-фантастической
атмосферой гоголевских произведений. Бездуховное существование,
разрушительное воздействие бюрократизма, губительная власть денег – все
эти особенности жизни современного мира побуждают обращаться к Гоголю,
интерпретируя его творчество в свете возникающих психологических и
художественных проблем. «Герои Гоголя, – говорит шведская
исследовательница Т. Линдстром, – от космического одиночества и
неприкаянности <…> бегут в мир сексуальных фантазий, в мир грез и
галлюцинаций, где, как правило, сознательное сочетается с
бессознательным, с несвязными мыслями и непредсказуемыми образами, и
возникает алогическая ирреальность, которую сюрреалисты доведут до
своего абсолютного выражения… Здесь вновь чрезмерность и жестокость
гоголевского гротеска сталкиваются с метафорой современной литературы,
которая предпочитает чрезвычайные, сенсационные ситуации».
Гоголевские интонации чувствуются в пьесе Дж. Хеллера «Мы бомбили
Нью-Хейвен» и в его же романах «Уловка-22», «Что-то случилось». Под
пером Хеллера алогичность американской военной жизни предстает как
недоступная рациональному пониманию. В романе «Уловка-22» нормальный
человек начинает казаться самому себе сумасшедшим, и возникает вопрос:
кто сошел с ума – он или окружающий его мир? «“Уловка-22 ” разъяснила, –
пишет автор, – что забота о самом себе перед лицом прямой и
непосредственной опасности является проявлением здравого смысла. Орр был
сумасшедшим, и его можно было освободить от полетов. Единственное, что
он должен был сделать, – просить. Но как только он попросит, его тут же
перестанут считать сумасшедшим и заставят снова летать на задания. Орр –
сумасшедший, раз он продолжает летать. Он был бы нормальным, если бы
захотел перестать летать, но, если он нормален, он обязан летать. Если
летает – значит, он сумасшедший и, следовательно, летать не должен; но
если он не хочет летать – значит, он здоров и летать обязан».
Ситуация в какой-то степени напоминает поприщинскую. Комментируя
одну из аналогичных сцен романа, писатель Н. Мейлер предположил, что со
временем Хеллер сможет стать американским Гоголем.
Одна из причин современности Гоголя, по мнению Ф. Рава, в том,
что писатель начал исследование проблемы взаимоотношений искусства и
жизни: «Дилемма, стоявшая перед Гоголем, была обусловлена неспособностью
примирить смысл своего искусства со смыслом своей жизни. Противоречие
это в высшей степени характерно для художников современного мира…»
Думается, однако, что критик не совсем точно сформулировал важнейшую
этическую проблему, которая мучила писателя, остро чувствовавшего
необходимость нравственной ответственности художника перед временем и
собой. Одним из первых Гоголь поставил вопрос о нравственном
совершенствовании писателя, в котором «все соединено с
совершенствованием его таланта, и обратно: совершенствование его таланта
соединено с совершенствованием душевным». Говоря о важности
«внутреннего воспитания», Гоголь подчеркивал: «Редко, кто мог понять,
что мне нужно было также вовсе оставить поприще литературное, заняться
душой и внутренней своею жизнью для того, чтобы потом возвратиться к
литературе создавшимся человеком…» Именно в этом заключается один из
аспектов духовной драмы Гоголя в конце жизни – драмы, которая до сих пор
остается загадкой для западных исследователей, пытающихся объяснить ее с
психоаналитических или экзистенциалистских позиций.
Выступая в начале ХХ века перед американскими слушателями и
подчеркивая типичность образа Чичикова, П.А. Кропоткин говорил: «Чичиков
может покупать мертвые души или железнодорожные акции, он может
собирать пожертвования для благотворительных учреждений или стараться
пролезть в директоры банка… Это безразлично. Он остается бессмертным
типом: вы встретитесь с ним везде, он принадлежит всем странам и всем
временам: он только принимает различные формы, сообразно условиям места и
времени». Возможно, в числе слушателей Кропоткина находился критик и
пропагандист русской литературы в США У. Фелпс, который в книге «Очерки о
русских романистах» буквально повторил суждение Кропоткина о Чичикове:
«Это верный портрет американского патрона или преуспевающего
коммивояжера, чьи успехи зависят не столько от подлинной ценности или
необходимости продаваемых им вещей, сколько от знания человеческой
природы и убедительности его речей».
Особый интерес представляет судьба гоголевской драматургии, с
которой зарубежный мир начал знакомиться уже в ХIХ веке. Несмотря на
многочисленные постановки и переводы, осмысление художественной глубины
«Ревизора» происходило с большим трудом. Даже в ХХ в. комедия часто
рассматривалась как сатирический фарс в духе Мольера, а главный герой,
Хлестаков, оценивался как типичный авантюрист, плут, умело использующий в
своих интересах запутанные обстоятельства, атмосферу всеобщего страха и
продажности. Отзвуки подобной интерпретации есть в книге А. Спектора
«Золотой век русской литературы», где Гоголь определяется как
последователь и ученик Мольера. Спектор, как и германский исследователь
Г. Лейсте, автор книги «Гоголь и Мольер», не учитывает, что Гоголь
обогатил драматургическое искусство новыми художественными средствами,
которые в настоящее время кажутся необычайно современными.
Лишь с 30-х годов ХХ в. театральная критика за рубежом начинает
осознавать, что современность пьес Гоголя – прежде всего в комической
парадоксальности ситуаций, в частности в пародизации традиционной
любовной интриги, без чего немыслима гоголевская драматургия. Подобная
пародизация встречается в уже упоминавшемся романе Хеллера «Уловка-22».
Широкую популярность драматургия Гоголя получает в середине ХХ в.
Именно в это время «Ревизор», «Женитьба» и другие гоголевские пьесы
совершают триумфальное шествие по сценам театров Франции, Италии, США,
Дании, Голландии и других стран. В 1966 г. постановку «Ревизора»
осуществляет английский режиссер Питер Холл на сцене Королевского
Шекспировского театра с Полом Скоффилдом в главной роли. В начале 60-х
годов в Италии появляется кинокомедия «Ревизор инкогнито» – пародия на
фашистский режим, поставленная по мотивам «Ревизора», а в Западной
Германии композитор Вернер Эгк создает комическую оперу на сюжет
гоголевской комедии. Любопытно письмо австрийской зрительницы о
постановке «Ревизора» на сцене венского театра «Скала»: «Не копия ли это
тех австрийцев, которые, маскируясь ханжескими фразами, столь ловко
умеют обогащаться за счет своих сограждан?»
Именно в это время в европейской и американской критике
утверждается мысль о том, что «Ревизор» – это не просто злободневная
«история о взяточничестве», что персонажи комедии представляют галерею
вечных типов наподобие Гарпагона или Тартюфа. Именно в этот период
происходит осмысление драматургического новаторства Гоголя, которое
отнюдь не сводится к пародированию любовной тематики, хотя французский
режиссер Андре Барсак и утверждал, что именно отсутствие какой бы то ни
было любовной интриги, удивившее первых зрителей «Ревизора», было
выражением дерзновенного новаторства автора. Главным оказывается
понимание того, что Гоголь сумел создать новые формы комического, цель
которых – обличение бессмысленности жизни, лишенной высоких духовных
устремлений, нелепости расхожей обывательской ограниченности внутреннего
мира людей, у которых гипертрофированное самомнение сочетается с
поразительным невежеством и душевной пустотой. Вот почему в наши дни
русский писатель воспринимается в мире как один из первых художников,
обратившихся к теме «пошлости пошлого человека» – закономерного
порождения бездуховной действительности.
В целом можно сказать, что освоение художественного и
нравственного опыта Гоголя только начинается и многим его произведениям
еще предстоит быть заново осмысленными в свете происходящих ныне
социально-исторических и духовных изменений.
вообразить себя управляющим департаментом, испанским королем и пр. Это
не случайно, ибо только в своих иллюзиях он может на время избавиться от
комплекса социальной и психологической неполноценности. Мотив
гротескного, фантасмагорического превращения жалкого чиновника в
сверхчеловека, жаждущего мщения за свою приниженность и забитость,
прозвучит впоследствии в творчестве Достоевского – продолжателя
гоголевских традиций. И слова Поприщина: «Отчего я титулярный советник и
с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф
или генерал, а только так кажусь титулярным советником?» – вовсе не так
безумны и абсурдны.
Восприятие Гоголя за рубежом начинается с уяснения
художественного своеобразия и новаторской значительности повести
«Шинель». «Гоголь был хорошо знаком с бюрократической сферой, ибо он в
течение некоторого времени служил чиновником в Петербурге, – отмечал
критик М. Спилка. – Он был первым, кто начал с заботливым, тщательным
вниманием изображать убожество и банальность существования
незначительных официальных чиновников». «Рассказ мог быть назван “Я –
брат твой”, – утверждает другой западный критик Ф. О’Коннор. – С
блистательной смелостью Гоголь создал комическо-героический характер
маленького чиновника-переписчика и соотнес его с образом распятого
Христа, так что когда мы смеемся, знакомясь с историей его жизни, то в
нашем смехе проявляется нечто похожее на ужас».
Социально-этическая коллизия «Шинели» такова: жалкий чиновник,
одержимый своей мечтой, и противостоящее ему враждебное окружение
оказались в ХХ веке понятном и близком многим западным художникам. «Я
посетил много стран, – замечает В. Набоков, – и у многих знакомых
встречал страстную мечту, подобную той, которую лелеял Акакий Акакиевич,
причем никто из них никогда не слышал о Гоголе».
Об актуальности социально-этической коллизии «Шинели»
свидетельствует итальянский фильм, сделанный по мотивам повести в 50-е
годы ХХ века. Действие фильма происходит в одном из итальянских городов.
Главный герой – мелкий чиновник Кармине дель Кармине, мечтающий о
приобретении нового пальто. Пальто для него не просто одежда,
позволяющая спастись от зимней сырости, но средство самоутверждения.
Несмотря на определенную модернизацию классического произведения,
режиссер Альберто Латтуада сумел сохранить в фильме гоголевский пафос
сочувствия униженному и оскорбленному человеку, который, став жертвой
социальной несправедливости, в финале сходит с ума и умирает.
Своеобразным вариантом Акакия Акакиевича предстает Гомер Симпсон в
романе американского писателя Н. Уэста «День саранчи». И когда однажды в
ресторане его возлюбленная, молоденькая актриса Фей, измываясь над этим
безропотным существом, заставляет его пить коньяк, называя квашней,
размазней, кажется, что Гомер Симпсон вот-вот подымет голову и
произнесет голосом Акакия Акакиевича: «Оставьте меня! Зачем вы меня
обижаете?» Вместо этого герой мужественно захлебывается коньяком и,
стараясь поддержать общее настроение, просит официанта принести еще
порцию.
«Счастье» Гомера Симпсона длится недолго. Его, как и Акакия
Акакиевича, настигает беда: у него «крадут» возлюбленную. Известие о
том, что Фей Гринер изменяет ему с ненавистным мексиканцем, потрясает
его, приводит к духовному надлому и безумию. В его душе пробуждается
жажда мщения, и он, не помня себя, в порыве ярости накидывается на ни в
чем не повинного малыша, зверски избивает его до тех пор, пока
разъяренная толпа не захватывает Гомера Симпсона в свои смертельные
объятия. Гибель героя выглядит такой же нелепой, каким было его
существование.
Известный французский актер-пантомимист Марсель Марсо с большим
успехом показывал в театральном сезоне 1958–1959 гг. инсценировку
«Шинели», которая стала одним из самых ярких событий парижской
театральной жизни. Спектакль, несмотря на своеобразие интерпретации
Марсо, сохранил гоголевский гуманистический пафос. Экранизация спектакля
была с триумфом встречена во многих странах мира. Сам Марсо
признавался: «“Шинель” была первой мелодрамой, касавшейся подлинно
социальной проблематики. По сути дела, она была первой романтической и
классической мимодрамой, которую я поставил. Романтической по содержанию
и классической по форме». Гоголевское «Я брат твой» стало душой и
смыслом образа, созданного Марселем Марсо: артист вошел не только в мир
маленького чиновника из далекого Петербурга, он в чем-то выразил чувства
своего нынешнего «брата», обездоленного человека-труженика с его
томительными и пока тщетными поисками счастья. «“Шинель” Гоголя, –
подчеркивал Марсо, – стала красной нитью нашего театра… Благодаря
“Шинели” Гоголя появились “Пьеро с Монмартра”, “Три парика” и даже
“Маленький цирк” (вторая классическая работа театра)».
Тема разлада между мечтой и действительностью не была новой для
мирового искусства. Ее можно обнаружить у романтиков, например у
Гофмана, которого по праву часто сравнивают с Гоголем. Однако если в
«Золотом горшке» конфликт между мечтой и действительностью разрешается в
сказочно-фантастических формах (волшебные чары зла рассеиваются, и
Ансельм находит счастье с Серпентиной. – Авт.), то в «Невском проспекте»
конфликт этот разрешается в реалистической манере. Здесь нет злых и
добрых волшебников. Иллюзии художника Пискарева и их крах
обусловливаются самой сущностью города, за блестящим фасадом которого
обнаруживаются бедность, пустота и ничтожество. Говоря об этом, В. Эрлих
приходит к выводу, что трагедия гоголевского героя порождена
абсурдностью человеческого существования. «Абсурдность жизни, которая в
Миргороде едва получила свое гротескное выражение, – пишет он, –
превращается в Арабесках в бестолковую неразбериху». «Бессмысленность
мира, – заключает критик, – эти кафкианские слова могли быть
гоголевскими».
Подметив тенденцию Гоголя вскрывать пустоту и бессмысленность
определенных форм жизни, В. Эрлих и А. Перри не замечают, что у Гоголя
жизнь абсурдна не сама по себе. Бессмысленна жизнь бездуховная,
мелочная, обывательская. Не принимая во внимание этого, казалось бы,
очевидного факта, критики объявляют Гоголя предшественником Кафки,
писателем, который якобы предвосхитил многие экзистенциалистские
построения. Критики упускают из вида существенную особенность
творческого метода Гоголя, а именно: смысловую функцию его юмора,
представляющую мощное оружие в борьбе с бездуховностью, нелепостью
обывательского существования. «Такой современный писатель, как Кафка,
стар и в своей сущности, и в технике. В то же время художники прошлых
времен, скажем Гоголь, оказываются чрезвычайно современными», – считал
Джеймс Перри.
Другое немаловажное обстоятельство, обусловливающее особенности
восприятия Гоголя в мире, имеет свои объективные предпосылки. Некоторые
зарубежные критики и художники, акцентирующие внимание на комической и
гротескной нелепости многих гоголевских ситуаций и сцен, находят
разнообразнейшие проявления бессмысленности вокруг себя, в окружающем
мире. Психологическая и социальная атмосфера, в которой живут и творят
эти деятели искусства, имеет много общего с гротескно-фантастической
атмосферой гоголевских произведений. Бездуховное существование,
разрушительное воздействие бюрократизма, губительная власть денег – все
эти особенности жизни современного мира побуждают обращаться к Гоголю,
интерпретируя его творчество в свете возникающих психологических и
художественных проблем. «Герои Гоголя, – говорит шведская
исследовательница Т. Линдстром, – от космического одиночества и
неприкаянности <…> бегут в мир сексуальных фантазий, в мир грез и
галлюцинаций, где, как правило, сознательное сочетается с
бессознательным, с несвязными мыслями и непредсказуемыми образами, и
возникает алогическая ирреальность, которую сюрреалисты доведут до
своего абсолютного выражения… Здесь вновь чрезмерность и жестокость
гоголевского гротеска сталкиваются с метафорой современной литературы,
которая предпочитает чрезвычайные, сенсационные ситуации».
Гоголевские интонации чувствуются в пьесе Дж. Хеллера «Мы бомбили
Нью-Хейвен» и в его же романах «Уловка-22», «Что-то случилось». Под
пером Хеллера алогичность американской военной жизни предстает как
недоступная рациональному пониманию. В романе «Уловка-22» нормальный
человек начинает казаться самому себе сумасшедшим, и возникает вопрос:
кто сошел с ума – он или окружающий его мир? «“Уловка-22 ” разъяснила, –
пишет автор, – что забота о самом себе перед лицом прямой и
непосредственной опасности является проявлением здравого смысла. Орр был
сумасшедшим, и его можно было освободить от полетов. Единственное, что
он должен был сделать, – просить. Но как только он попросит, его тут же
перестанут считать сумасшедшим и заставят снова летать на задания. Орр –
сумасшедший, раз он продолжает летать. Он был бы нормальным, если бы
захотел перестать летать, но, если он нормален, он обязан летать. Если
летает – значит, он сумасшедший и, следовательно, летать не должен; но
если он не хочет летать – значит, он здоров и летать обязан».
Ситуация в какой-то степени напоминает поприщинскую. Комментируя
одну из аналогичных сцен романа, писатель Н. Мейлер предположил, что со
временем Хеллер сможет стать американским Гоголем.
Одна из причин современности Гоголя, по мнению Ф. Рава, в том,
что писатель начал исследование проблемы взаимоотношений искусства и
жизни: «Дилемма, стоявшая перед Гоголем, была обусловлена неспособностью
примирить смысл своего искусства со смыслом своей жизни. Противоречие
это в высшей степени характерно для художников современного мира…»
Думается, однако, что критик не совсем точно сформулировал важнейшую
этическую проблему, которая мучила писателя, остро чувствовавшего
необходимость нравственной ответственности художника перед временем и
собой. Одним из первых Гоголь поставил вопрос о нравственном
совершенствовании писателя, в котором «все соединено с
совершенствованием его таланта, и обратно: совершенствование его таланта
соединено с совершенствованием душевным». Говоря о важности
«внутреннего воспитания», Гоголь подчеркивал: «Редко, кто мог понять,
что мне нужно было также вовсе оставить поприще литературное, заняться
душой и внутренней своею жизнью для того, чтобы потом возвратиться к
литературе создавшимся человеком…» Именно в этом заключается один из
аспектов духовной драмы Гоголя в конце жизни – драмы, которая до сих пор
остается загадкой для западных исследователей, пытающихся объяснить ее с
психоаналитических или экзистенциалистских позиций.
Выступая в начале ХХ века перед американскими слушателями и
подчеркивая типичность образа Чичикова, П.А. Кропоткин говорил: «Чичиков
может покупать мертвые души или железнодорожные акции, он может
собирать пожертвования для благотворительных учреждений или стараться
пролезть в директоры банка… Это безразлично. Он остается бессмертным
типом: вы встретитесь с ним везде, он принадлежит всем странам и всем
временам: он только принимает различные формы, сообразно условиям места и
времени». Возможно, в числе слушателей Кропоткина находился критик и
пропагандист русской литературы в США У. Фелпс, который в книге «Очерки о
русских романистах» буквально повторил суждение Кропоткина о Чичикове:
«Это верный портрет американского патрона или преуспевающего
коммивояжера, чьи успехи зависят не столько от подлинной ценности или
необходимости продаваемых им вещей, сколько от знания человеческой
природы и убедительности его речей».
Особый интерес представляет судьба гоголевской драматургии, с
которой зарубежный мир начал знакомиться уже в ХIХ веке. Несмотря на
многочисленные постановки и переводы, осмысление художественной глубины
«Ревизора» происходило с большим трудом. Даже в ХХ в. комедия часто
рассматривалась как сатирический фарс в духе Мольера, а главный герой,
Хлестаков, оценивался как типичный авантюрист, плут, умело использующий в
своих интересах запутанные обстоятельства, атмосферу всеобщего страха и
продажности. Отзвуки подобной интерпретации есть в книге А. Спектора
«Золотой век русской литературы», где Гоголь определяется как
последователь и ученик Мольера. Спектор, как и германский исследователь
Г. Лейсте, автор книги «Гоголь и Мольер», не учитывает, что Гоголь
обогатил драматургическое искусство новыми художественными средствами,
которые в настоящее время кажутся необычайно современными.
Лишь с 30-х годов ХХ в. театральная критика за рубежом начинает
осознавать, что современность пьес Гоголя – прежде всего в комической
парадоксальности ситуаций, в частности в пародизации традиционной
любовной интриги, без чего немыслима гоголевская драматургия. Подобная
пародизация встречается в уже упоминавшемся романе Хеллера «Уловка-22».
Широкую популярность драматургия Гоголя получает в середине ХХ в.
Именно в это время «Ревизор», «Женитьба» и другие гоголевские пьесы
совершают триумфальное шествие по сценам театров Франции, Италии, США,
Дании, Голландии и других стран. В 1966 г. постановку «Ревизора»
осуществляет английский режиссер Питер Холл на сцене Королевского
Шекспировского театра с Полом Скоффилдом в главной роли. В начале 60-х
годов в Италии появляется кинокомедия «Ревизор инкогнито» – пародия на
фашистский режим, поставленная по мотивам «Ревизора», а в Западной
Германии композитор Вернер Эгк создает комическую оперу на сюжет
гоголевской комедии. Любопытно письмо австрийской зрительницы о
постановке «Ревизора» на сцене венского театра «Скала»: «Не копия ли это
тех австрийцев, которые, маскируясь ханжескими фразами, столь ловко
умеют обогащаться за счет своих сограждан?»
Именно в это время в европейской и американской критике
утверждается мысль о том, что «Ревизор» – это не просто злободневная
«история о взяточничестве», что персонажи комедии представляют галерею
вечных типов наподобие Гарпагона или Тартюфа. Именно в этот период
происходит осмысление драматургического новаторства Гоголя, которое
отнюдь не сводится к пародированию любовной тематики, хотя французский
режиссер Андре Барсак и утверждал, что именно отсутствие какой бы то ни
было любовной интриги, удивившее первых зрителей «Ревизора», было
выражением дерзновенного новаторства автора. Главным оказывается
понимание того, что Гоголь сумел создать новые формы комического, цель
которых – обличение бессмысленности жизни, лишенной высоких духовных
устремлений, нелепости расхожей обывательской ограниченности внутреннего
мира людей, у которых гипертрофированное самомнение сочетается с
поразительным невежеством и душевной пустотой. Вот почему в наши дни
русский писатель воспринимается в мире как один из первых художников,
обратившихся к теме «пошлости пошлого человека» – закономерного
порождения бездуховной действительности.
В целом можно сказать, что освоение художественного и
нравственного опыта Гоголя только начинается и многим его произведениям
еще предстоит быть заново осмысленными в свете происходящих ныне
социально-исторических и духовных изменений.
Юрий Сохряков http://www.rv.ru/content.php3?id=13355