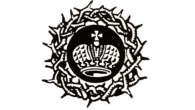Москва, 25 декабря – Наша Держава. Традиционно день Царскосельского
лицея (19 октября) исполнен умиления и ностальгии. Да, все мы с
нежностью относимся к своей юности. Что уж говорить о Пушкине, который
пронес любовь к своей альма-матер и дружбу с лицейскими друзьями через
всю жизнь. Но мы хотим поговорить не об этом. Скорее – о темной, теневой
стороне тех светлых лет, той тени, которую лицей бросил на юного
Пушкина и которую он так же, как светлую память о нем, пронес через всю
жизнь и которая в конце концов и убила его.
Стихи
1836 года к 25-й лицейской годовщине особенно полны этой тревожной
сгущенной тени, смутных догадок, мрачных предчувствий. Пушкин, как
известно, даже не смог дочитать их, слезы хлынули из его глаз, и он
бежал прочь.
Действительно,
стихи эти проникнуты грозными историософскими мотивами и
эсхатологическими предзнаменованиями, не оставляющими места нежности и
умилению… За ними скорее открывается черная гудящая бездна, встает
исполинская мрачная тень революции:
…Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари…
И
едва ли случайно, что эти, самые яркие, мощные и тревожные
историософские стихи Пушкина связаны с лицейской годовщиной. Ведь именно
в лицее Пушкин лицом к лицу столкнулся с революцией.
Пушкин
родился в крайне либеральной семье, что на пороге «просвещенного» XIX
века было скорее правилом, нежели редкостью в высшем свете.
По-русски
в семье не говорили, книжные полки были заставлены вольтерьянской
литературой, и отец, и дядя Пушкина, Василий Львович, состояли в
масонских ложах. Масонство вообще было тогда в большой моде, а масонские
организации имели тогда в России официальный статус. Среди лицейских
преподавателей Пушкина также немало было людей крайне либеральных
взглядов. Точнее сказать, Московский университет и Царскосельский лицей
стали тогда настоящими рассадниками масонских идей.
Сам
проект Царскосельского лицея, согласно распространенному мнению, был
написан швейцарским масоном Лагарпом (воспитателем Александра I) и
иллюминатом М. Сперанским. Лицейские преподаватели и профессора, такие
как Гаугеншильд, Кошанский, были членами масонских лож, а воспетый
Пушкиным Куницын преподавал нравственную логику и философию совершенно в
духе французских просветителей. Теми же идеями был пропитан директор
лицея В. Ф. Малиновский. Дельвиг, Батенков, Бестужев, Кюхельбекер,
Измайлов были членами той же ложи «Избранный Михаил», что и проф.
Кошанский.
Одним словом, ничего
удивительного в том, что из лицея, задуманного царем как школа для
«юношества особо предназначенного к важным частям службы
государственной», вышли не столько верные служители державы, сколько
члены тайных антиправительственных обществ. (Что опять же является
скорее правилом, нежели исключением не только для России вчерашней и
сегодняшней, но и для всего Нового времени в целом. Достаточно взглянуть
на бурлящие сегодня леволиберальным экстремизмом Соединенные Штаты).
Неудивительна
и революционность (более все же напускная и выпендрежная) юного
Пушкина, которому, как он позднее признавался, лестно было видеть себя
человеком дерзким и «опасным для правительства». Таким было само то
время. Русское офицерство после победы над Наполеоном вернулось из
Парижа насквозь пропитанным революционными просветительскими идеями.
Так, например, П. Чаадаев, близкий друг Пушкина, вступил в масонскую
ложу, возвращаясь из Франции. В «Записке декабриста» (Лейпциг, 1870) Н.
И. Лорер писал: «цвет офицеров гвардейского корпуса вернулся домой с
намерением пересадить Францию в Россию. Так образовались в большей части
лучших полков масонские ложи с чисто политическим оттенком».
Да,
это было время настоящего расцвета русского масонства. И все же ни
революционером, ни масоном Пушкин не стал. Даже совсем юным, в самых
«революционных» своих стихах, «Кинжале» и «Вольности», он выступает, по
сути, лишь за конституционную монархию. А будучи принятым в кишиневской
ссылке в ложу «Овидий», тут же, как замечают исследователи, становится
«уснувшим братом». Это вообще была крайняя точка пушкинского
«экстремизма», и с этого же момента он начинает быстро и неуклонно
праветь. Что и неудивительно: человеком он был умным («самым умным
человеком России», по признанию царя), не по годам развитым, умеющим
отличить ясную мысль от пустой демагогии.
Вот пара примеров.
Встретившись
с Пестелем, перед которым благоговели соратники и которого
рекомендовали ему как человека великого ума, Пушкин был сильно
разочарован. Ум нового пророка он нашел слишком отвлеченным, набитым
книжными схемами, а о его сердце заметил, что «властность его граничит с
жестокостью» (Липранди).
Еще
менее впечатлил Пушкина Рылеев, «Думы» которого он назвал совершенной
дрянью, заметив, что их название происходит от немецкого «думм» (дурак).
Так, познакомившись с лучшими из масонов и революционеров своего
времени, Пушкин нашел их дураками, гордецами и проходимцами в духе
Верховенского («Бесы»).
Позднейшее
отношение поэта к масонству вполне передает рассказ Соболевского, на
вопрос которого, почему он не примкнул к братству, Пушкин ответил:
«Разве ты не знаешь, что филантропическое и гуманитарное общество, даже и
самое масонство, получило от Адама Вейсгаупта направление
подозрительное и враждебное, существующим государственным порядкам. Как
же мне было приставать к ним?»
То
же касается и модного тогда атеизма. «Единственный умный афей», образ
мысли которого Пушкин в одном из своих кишиневских писем признает
неутешительным, но «к несчастью, самым правдоподобным», англичанин
Гутчинсон, уехав в Англию, становится ревностным англиканским пастором.
Тем временем и гений Пушкина делает свое дело, уча его «удерживать
вниманье долгих дум» в Михайловской ссылке…
Одним
словом, к 1825-му, году декабристского заговора, Пушкин предстает уже
вполне зрелым государственником и монархистом. Что и являет его встреча с
царем 8 сентября 1826 г. в Чудовом монастыре, который оба оставляют
совершенно довольные и очарованные друг другом. И с этого же времени
лучи славы первого поэта России, в которых купался он все эти годы,
начинает тускнеть. Высший свет смотрит на поэта, вступившего в искренний
союз и дружбу с царем, все более холодно и отчужденно.
Хотя
масонство в России было запрещено еще указом Александра от 1822 г.,
масоны никуда не делись. Легко закрыть ложу, труднее переменить ум. Со
времени указа одни ложи ушли в подполье (подобно южному и северному
обществам декабристов), другие же заменили светские петербургские
салоны. В Петербурге 1830-х годов было три больших великосветских
салона: графини Нессельроде, графа Кочубея и Хитрово-Фикельмон. В двух
первых Пушкина ненавидели, в третьем его принимали и даже любили. Но и
здесь его окружало немало врагов, и именно здесь он встретил Дантеса.
Что уж говорить о двух первых, кишевших масонами и врагами традиционной
России.
Главным
центром заговора против Пушкина стал салон графини Нессельроде. Дом
министра иностранных дел графа Нессельроде (пост он занимал более 33
лет) был в то же время центром «немецкой придворной партии». По-русски
здесь не говорили (включая самого Нессельроде, выходца из
немецко-французской гугенотской семьи, за 70 лет карьеры в России так
толком и не выучившегося туземному языку). В салоне графини Нессельроде
(которую великий князь Михаил Павлович колко называл «господин
Робеспьер») своими были Геккерны и другие «русские иностранцы»,
составляющие свой, протестантско-масонский мир. Мир, крайне двуличный по
своему духу, мир самых высоких масонских посвящений.
Сам
Нессельроде, на словах – преданный государю консерватор, на деле несет
львиную часть ответственности за международную изоляцию России, Крымскую
войну и крах Священного союза. Именно здесь, в доме Нессельроде, плелся
клубок заговора против Пушкина. Отсюда, по всей видимости, ушел и так
называемый Диплом рогоносца (написанный на министерской бумаге и
изобилующий масонской символикой), ставший спусковым крючком роковой
дуэли. Помимо личной ненависти, которую граф и графиня Нессельроде
питали к Пушкину за его злобные эпиграммы, ведущую роль в травле поэта
играли все же политические мотивы.
В
то время как Пушкин уже был неофициальным лидером русской национальной
партии (уже прогремели его «Бородинская годовщина» и «Клеветникам
России»), загнанное в подполье масонство снова являлось на свет в виде
нарождающегося «ордена русской интеллигенции». Которому конкуренты на
политическом поле были отнюдь не нужны.
И
вот какая странность: в то время как пушкинские политические издания
одно за другим неизменно закрывались, а самому ему было запрещено
покидать не только страну, но и столицу, «крестные отцы»
интеллигентского ордена, Герцен и Белинский, действовали практически
беспрепятственно, легко перемещаясь через границы, издавая свои журналы и
налаживая связи под «бдительным оком» III Отделения графа Бенкендорфа,
большого друга графа Нессельроде.
Известный
исследователь русского масонства В. Иванов считает (с ним соглашается и
А. Башилов), что сам Бенкендорф был деятельным масоном, а его проект
Третьего отделения, поддержанный царем, имел своей целью покрытие
деятельности запрещенного масонства. Так это или нет, достоверно сказать
невозможно. Не может не вызывать подозрения, однако, тот факт, что
жандармы III Отделения, посланные не допустить роковой дуэли, были
посланы Бенкендорфом в противоположном от Черной речки направлении. Это
могло быть как ошибкой, так и расчетом, но очевидно, что причины
уничтожить Пушкина у профессиональных творцов революций были самые
веские.
И дело тут, конечно, не
только в предательстве (уснувший брат) и отступлении от идеалов ордена.
Как поэтический и философский гений, как глава русской национальной
партии, Пушкин был, несомненно, самым опасным врагом революции. И ради
успеха дела должен был как можно скорее уйти с дороги.