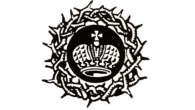Москва, 12 марта – Наша Держава. Хотя
мы привыкли считать войны XVIII-XIX века эпохой огнестрельного оружия,
когда оно уж точно стало господствовать на поле боя, но в этом вопросе
стоит сделать ряд оговорок. Войска под командованием Петра Великого,
Румянцева, Суворова, Кутузова действительно состояли из вооруженной
ружьями пехоты и имели многочисленную артиллерию. И грохот орудий на
полях сражений стоял неимоверный. Но и роль штыка, да и вообще холодного
оружия была весьма значительна, поскольку без рукопашных схваток редко
какая битва обходилась.
А
вот порой армия могла сражаться и без артиллерии, самым ярким примером
служит всем известная Полтавская битва. В которой шведская артиллерия
молчала из-за отсутствия боеприпасов.
В
описании сражения при Козлуджи, есть упоминание, что дождь подмочил
патроны турецкой пехоты, которые носили в карманах, а потому и стрелять
они не могли. Что дало нашим солдатам немалое преимущество.
Есть
версия и о том, что гибель отряда Ермака случилась по вине дождя.
Который подмочил патроны и лишил казаков главного преимущества над
татарами — огнестрельного оружия.
Подобных
упоминаний о том, что когда какие-то причины (часто именно дождь) не
давали возможность использовать огнестрельное оружие, а войска отнюдь не
прекращали сражения, встречается немало. Поскольку оставался штык.
И
дело ведь не в том, что солдаты той эпохи не осознали преимуществ
огнестрельного оружия — это мы сейчас часто забываем о том, каким оно
тогда было. А зря.
Давайте
вспомним или, точнее, представим себе типичную картину сражения
XVIII-XIX веков. Так как подходящего отечественного фильма нет, то можно
вспомнить американский «Патриот» (“The Patriot”, 2000 года с Мелом
Гибсоном в главной роли), где много сцен, которые очень хорошо
иллюстрируют описываемую тему.
Войска
противников выстраиваются в несколько шеренг в сотне метров друг от
друга и стреляют залпами. С позиции сегодняшнего дня это просто
смертоубийство, поскольку промахнуться трудно даже если вы стреляете
первый раз, а пуля современного стрелкового оружия с такого расстояния
может в толпе положить и больше, чем одного человека. Однако, результат
совсем иной, поскольку стороны могут обменяться и ещё одним залпом. Если
вы помните, то в упомянутом фильме, герой Мела Гибсона просит своих
солдат успеть сделать два выстрела.
Однако
даже после нескольких выстрелов, сделанных (по современным понятиям)
практически в упор, в строю остаётся достаточно солдат, чтобы, постреляв
таким образом, идти в штыковую атаку. А вот в штыковой атаке потери уже
серьёзнее, там или ты его, или он тебя.
Кстати,
реальный штыковой бой той эпохи в фильмах я и не припомню. Равно как и в
более ранних. Всегда рукопашный бой показывают, как отдельные схватки
между конкретными солдатами. Равно как и в штыковую атаку и суворовские,
и наполеоновские солдаты идут в рассыпную. А это ведь далеко не так,
вспомните, что тот же Суворов и Наполеон говорили про ударную силу
колонн пехоты, про использование каре против конницы и пр.
Многие
авторы, особенно в советское прошлое наше (когда старались критиковать
как можно больше «царские времена»), очень любили вспоминать про то, что
в обучении солдат больше всего занимала «шагистика». Солдат дескать
гоняли по плацу до седьмого пота, поскольку готовили не к бою, а параду.
А вот Суворов, Кутузов и другие «правильные полководцы» учили солдат
иному.
Хочется
только задать вопрос, коль Суворов учил солдат чему-то иному, то как же
его «чудо-богатыри» на поле боя выполняли столь сложные маневры, под
огнём противника перестраиваясь на ходу. Передвигаясь колоннами, и при
появлении турецкой конницы мгновенно перестраиваясь в каре. И чтобы
этому научить солдат их надо «гонять на плацу» в сто раз дольше, чем для
обучения парадному строю. Только кажется, что всё так просто. А в пылу
боя, когда грохот всё заглушает, когда из-за дыма ничего не видно, и
ориентироваться надо только на барабанную дробь или ещё какую «музыку».
А
как вести штыковую атаку в плотном строю? Ведь вся задача была не как в
кино показывают, устроить множество индивидуальных схваток, а удержать
свой строй и разрушить чужой. Потому как войско, потерявшее строй — это
уже не войско, а то, что должна добивать и преследовать кавалерия.
Так что умение ходить строем в ту пору было средством достижения победы, а не блажью очередного главнокомандующего.
Конечно,
и стрельбе тоже обучиться было сложно, про то, сколько операций надо
было совершить, дабы зарядить ружьё, которым практически без изменения
пользовались не одну сотню лет, написано много. И, насколько я помню,
сделать два выстрела в минуту мог только очень опытный солдат в начале
XIX века. При этом вероятность, что круглая пуля из гладкоствольного
ружья вместо того, чтобы поразить супостата, полетит куда угодно была
практически такая же. Или просто вылетит со слишком маленькой скоростью и
обычный мундир для неё окажется подобным самым крепким латам. И как её
(пулю) после этого назвать? А хорошо обученные (на плацу) солдаты, даже в
строю, смогут преодолеть расстояние, на которое пуля летит, может быть и
быстрее, чем противник оружие перезарядит. И в штыки. Так что решает
всё грубая физическая сила и умение колоть штыком. Что тоже целая наука,
поскольку сам-то по себе штык не молодец, а просто острый предмет,
который может оказаться опасным и для его владельца…