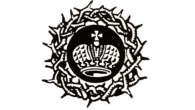Виктор Лазаревич Поляков (1881-1906)
Москва, 13 сентября – Наша Держава (Сергей Сергеев). В письме поэта и прозаика (человека весьма правых политических взглядов) А.А. Кондратьева одному из лидеров Союза русского народа Б.В. Никольскому от 31 мая 1906 г. имеется следующее интригующее место: «Стихи Полякова необходимо издать. […] Я любил его сильно и гордился дружеским ко мне расположением этого умного, талантливого и красивого иноплеменника. И лишь после смерти его понял, как он был мне близок и дорог.
Фантазия (конечно, это была фантазия!) рисовала мне во время вашего доклада слегка наклонившуюся над Вашим креслом фигуру… Мне казалось, что он смотрит через левое Ваше плечо на свои письма…
Результат Вашего чтения был между прочим таков: из состава озлобленного против евреев киевской депутации кто-то сказал: “многое можно простить за него еврейскому племени” или что-то в этом роде […] Если Бог приведет меня быть снова в Париже – непременно схожу к нему на могилу».
Из другого кондратьевского письма выясняется, что речь шла о специальном докладе Никольского памяти Полякова на заседании Русского собрания (по определению автора специальной монографии о последнем Ю.И. Кирьянова, это – «русофильская элитарная культурно-просветительская организация правомонархического толка», «мозговой центр консервативных сил»). Итак, один из вождей «черносотенцев» читает на «черносотенном сборище» сочувственный доклад о неком еврее, которым (и докладом, и его героем) восхищаются все присутствующие, и как один встают с мест, чтобы почтить его память! Кто же такой этот загадочный Поляков?
Виктор Лазаревич Поляков родился 6 октября 1881 г. в семье знаменитого московского банкира Лазаря Соломоновича Полякова (по сведениям Кондратьева, мать происходила из Ротшильдов), окончил гимназию и юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где и познакомился с преподавателем римского и гражданского права приват-доцентом Б.В. Никольским. Последний был человеком ярким и разносторонним, в частности тонким ценителем поэзии, вокруг которого группировались студенты с поэтическими склонностями. Из их лучших стихотворений Борис Владимирович составил «Литературно-художественный сборник» (СПб., 1903), там-то и состоялся литературный дебют предельно далекого по своей натуре от банковского дела банкирского сына в соседстве с Кондратьевым и начинающим Блоком. В том же году участники сборника создали Кружок изящной словесности, собиравшийся на квартире Никольского. В 1905 г. Поляков перенес тяжелую болезнь (воспаление уха), от последствий которой так и не оправился. 14 марта 1906 г. он скончался в Париже, судя по всему, покончив жизнь самоубийством.
Вот собственно и вся биография не дожившего до двадцати пяти лет талантливого юноши, эпилогом коей стало посмертное издание (подготовленное Никольским) его стихов в 1909 г. На этот сборник откликнулся Блок, упомянув его в статье «Противоречия», где вспомнил общение с автором – «печальным, строгим, насмешливым, умным и удивительно привлекательным» – но подчеркнул, что тот как поэт «не был ярко талантлив». Никольский и Кондратьев, напротив, оценивали поэтическое дарование своего друга достаточно высоко, но … предоставим решать, кто тут прав, филологам, отметив только что, если не литературная, то человеческая индивидуальность в поляковских стихах несомненно видна. Выражена она, в частности, в гражданской позиции автора. Вот, скажем, стихотворение «Века», созданное в разгар русско-японской войны:
О нет, мы не хотим ничтожной тишины!
Терпи народ! Мужайся гордый воин!
Ты должен победить: ты победить достоин.
Люби великий труд и ужасы войны.
Терпи, народ, – не бойся горькой чаши:
Вернется все, чем жизнь твоя светла,
И, усмирив врагов, мы пушки наши
Вновь перельем в колокола.
Это писалось (и писалось не на публику, а для себя) тогда, когда большинство русской интеллигенции (русской и по крови тоже!) занимало откровенно пораженческую позицию по отношению к своему Отечеству, когда группа петербургских студентов и курсисток (почти что ровесников Полякова) отправила в Токио телеграмму с пожеланием микадо скорейшей победы над «проклятым самодержавием». Из известных писателей своим словом правительство и армию в тяжелый час поддержал один Брюсов, опубликовавший несколько замечательных патриотических стихотворных деклараций, достойных Пушкина и Тютчева. Унизительный финал войны, бездарно проигранной сановно-чиновными “доброжелателями” Государя Николая II , также вызвал поэтический отклик Полякова:
…Осталось: пол-Сахалина,
Вождей преступных имена,
Их непонятная гордыня,
И, как залог народных сил
Неосквернимая святыня
Бесславно преданных могил.
Пою героев безымянных!
Равнин Манджурии туманных
Ее привычных им снегов
Они покинуть не хотели,
И безыскусственных крестов
Не заметут ее мятели…
Перед нами настоящий гимн русскому солдату, а ведь казалось бы, что автору, сыну еврейского миллионера, «что ему Гекуба»? Похожие настроения проходят красной нитью и через письма Полякова Никольскому 1904 – 1905 гг.: русским «необходимо побережье Тихого Океана»; «теперь война – там тысячи людей умирают за культуру, под которую другие всю жизнь подкапываются; хорошо бы лечь там!»; «хотя гибель флота не была для меня неожиданностью, но все же я тайком надеялся – нужна победа! что-то будет! […] В Питере, должно быть, сволочь ликует – ведь всякое поражение русских есть победа революционеров: у нас два “театра военных действий”. […] Не могу писать. Уныние».
Совершенно нетипичны для еврейско-русского интеллигента той поры взгляды Виктора Лазаревича на события революции 1905 г. Любопытно в этом смысле сравнить его реакцию на ограничивавший самодержавие Манифест 17 октября 1905 г., данный Николаем II под давлением революционного натиска, с реакцией его однокашника по университету и товарища по Кружку изящной словесности Александра Блока. Блок в стихотворении «Вися над городом всемирным…» воспринял Манифест как временное отступление ненавистной ему «змеи» царизма, не принесшее подлинной свободы народу: «И ни один сустав не сдавлен / Сверкнувших колец чешуи». Поляков же в полном согласии с «черносотенцами» считал этот акт самоизменой русской монархии, предательством ею своего исторического назначения и резко выразил свое мнение в стихотворном памфлете «На 17 октября», по понятным причинам не вошедшее в его посмертный сборник (для понимания первых строк этого произведения необходимо вспомнить историю Прутского похода 1711 г. Петра I, когда он, окруженный превосходящими турецкими войсками, был вынужден подписать унизительный мир и в счет выкупа отдать противнику даже драгоценности царицы Екатерины):
Когда Петра покинул Бог,
Когда орел в порыве ратном,
В полете смелом изнемог
Над океаном необъятным
Себе он гневно изменил,
Он жемчуг взял своей орлицы,
Он ожерельями царицы
Спасенье мрачное купил,
А ты, врагам своим послушный
О маловерный, малодушный,
Ты отдал росчерком пера
Венец блистательный Петра;
Но сей венец…но им Россия,
Как побежденная стихия
В величьи скована цвела;
Ты дал свободу: морем зла
И морем пламени свобода
Сожгла величие народа, –
Но сей венец, – он был ли твой?.
………………………
………………………
Я слышу смех и ликованье,
Я проклинаю этот день
И тем завидую, кто в сень
Ушел безумной, вечной ночи,
Чьи для тебя смежились очи:
Их не смущает пьяный вой
Убийц, оправданных тобой.
Ультраконсервативен Поляков и в прозе, особенно в письмах к Никольскому: «Читаю русские газеты – Господи, сколько обличителей! – Однако простим правительству правоту (относительную) этой сволочи: в противном случае мы будем заодно с людьми, готовыми продать отечество для того, чтобы поиграть в конституцию – забывая, что Россия без конституции ценнее, чем конституция без России. – Заграничные газеты – гораздо приличней, ибо злорадны без лицемерия. – “Европа” к нам не расположена – русское самодержавие кажется ей угрозою и чуть ли не личным оскорблением» (Никольский в ответ сообщает: «Ваша прелестная острота, что Россия без конституции несравненно ценнее, чем конституция без России, пошла теперь по Петербургу, – и не от моего имени, а от Вашего. Впрочем, генерал Богданович рассеянно повторил ее в моем присутствии с большим успехом от собственного имени»); «увы! правительство зашло уже слишком далеко, оно связано манифестом 17-го октября, манифестом, данным не народом – ибо народ его не требовал […] – но многочисленной и сильной шайке преступников, с которой правительство отныне солидарно; народ предоставлен себе»; «справьтесь, пожалуйста, нет ли осины в царскосельском парке, а если есть, то, скоро ли на ней повесится славный авантюрист [граф С.Ю. Витте – предмет стойкой ненависти “черносотенцев”]? […] Новое Время меня злит; Суворин все еще не понял, что русский националист не может быть противником неограниченного самодержавия».
Каково, Виктор Лазаревич Поляков ощущает себя русским националистом, большим, чем сам Алексей Сергеевич Суворин! Причем он был готов защищать свои убеждения не только на бумаге, Кондратьев в письме В.Я. Брюсову вспоминал, что 18 октября 1905 г. на петербургской Казанской площади Поляков «один из последних ушел с места столкновения двух манифестирующих процессий, где стоял под выстрелами людей, несших красные флаги».
Идейный питомец Никольского был не только политически правоверным «черносотенцем», но и «славянофилом» в вопросах культуры. Его письма изобилуют стрелами в адрес европейской цивилизации, особенно достается Франции («меня смущает наш союз с этою гнилой развратницей»), он мечтает написать «четвертый том “Борьбы с Западом” [как продолжение трехтомника Н.Н. Страхова, в котором анализируется духовный кризис Европы через признания на этот счет ее виднейших умов], посвященный двум-трем из выдающихся [европейских] декадентов», хочет «предпринять поход» против религиозного западника В.С. Соловьева («опасный и хитрый “интеллигент”, придавший своему нигилизму мистическую окраску для того, чтобы соблазнить кого следует»).
Но, пожалуй, главная загадка Полякова в том, что, по словам Кондратьева, он «был еврей, не желающий менять религии и в то же время бывший желанным гостем в “Христианском Содружестве Молодежи”; знакомства с ним искали православные епископы» (Никольский пересылал его наиболее интересные письма для ознакомления знаменитому «черносотенному» владыке Антонию (Храповицкому), может последний здесь и имеется в виду). Не отказался он от веры предков и на пороге вечности. Кондратьев вспоминает, что в предсмертном письме Поляков пообещал «просить за меня Иегову, чтобы Тот пощадил меня в дни, когда будет плясать, как виноградарь в точиле, по колено в крови неверных [курсив Кондратьева]». Бежавший после 1917 г. от вакханалий красного террора за границу, Кондратьев печально иронизировал в 1931 г.: «Мой покойный друг, как мне кажется, сдержал свое слово».
Но было бы неправдой сказать, что русско-православное и еврейско-иудаистское начала совершенно гармонично уживались в душе черносотенного потомка Ротшильдов. Взять хотя бы проблему языка, о которой сам Виктор Лазаревич с подкупающей откровенностью поведал в письмах Никольскому: «Ну, допустите на минуту, что я писатель и что я люблю язык, на котором пишу […]; а между тем – он мне не повинуется; язык – старый слуга, помнит прадеда, всё помнит, всё знает – но мне ли расскажет […] Поймите, поймите, какой это позор, какой это труд». И в самом деле, в поляковских стихах чувствуется «неповиновение» русского языка автору, они очевидно косноязычны.
Другой пример. Будучи последователен в своих «черносотенных» взглядах, Поляков, в сущности, оправдывал еврейские погромы 1905 г., ибо «антиеврейское движение есть борьба антиреволюционная, что бы ни говорили радикальные газеты», но это не отменяло его собственного страха перед погромом: «Я бежал из Питера и сижу здесь [за границей], – потому что я жид; за порогом Вашей [Никольского] квартиры – я пёс, которого не сегодня-завтра побьют палками, я вор, я предатель, я – жид; о, я понимаю – самый облик жида должен быть ненавистен народу».
Побывав на могиле Гейне, Поляков «чуть не расплакался» и горько жалуется Никольскому: «При встрече с евреями я ничего, кроме жгучей боли и тошноты не испытываю; а хотелось бы голову склонить к чему-нибудь неотъемлемо-родному – ведь как-никак, а Ваша дружба и Ваше пристрастие – только возвышенное гостеприимство; […] приёмышу-то не забыть, что он приёмыш; с этим ничего не поделаешь […] меня обвиняют в антисемитизме, да я бы ноги целовал еврею, который был бы мне истинно отцом. Меня забыли на пороге вашей культуры, точно подкинули».
Не стала ли эта раздвоенность одной из причин самоубийства молодого поэта?
Как бы то ни было, жизнь и творчество Виктора Полякова – яркий и трогательный, ни на что не похожий эпизод в истории русской культуры.