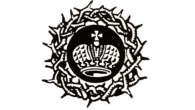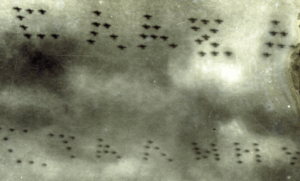Великий Новгород, 12 мая — Наша Держава (Ольга Осетрова). Более десяти часов присутствия в Новгороде (Великом, не Нижнем) – суммарное время визитов в наш город последней российской Императорской Семьи. Каждая минута из этих часов осталась в памяти многих очевидцев ярким воспоминанием.
«Усыпали цветами путь перед стопами Монарха»
6 июля 1904 года Император Николай II пробыл у нас всего два часа, лично осматривая войска перед отправкой на фронт. Царь сначала посетил Старую Руссу, где Ему представили Вильманстрандский полк, а в Новгороде на Софийской площади Его ждали Выборгский и Нейшлотский пехотные полки, которых Он, коленопреклонённых, благословил иконой. Потом Царь проверил дивизионный обоз, побеседовал с отправлявшимися на Дальний Восток сёстрами милосердия (среди них была и дочь тогдашнего губернатора, графиня Мария Медем). После краткого молебна в Софийском соборе Государь приложился к святым мощам и осмотрел ризницу. Местные газеты написали, что гимназистки «усыпали цветами путь перед стопами Монарха». Проследовав далее в Чудово, где произвел смотр 88-му Петровскому полку и 1-му саперному батальону, Царь записал вечером в своём дневнике, что «всеми смотрами остался очень доволен, в особенности видом людей».

За успешные действия по взятию одной из стратегически важных сопок в сражении на реке Шахэ, с уничтожением большого японского отряда и взятием 14 трофейных орудий, ту сопку переименовали в Новгородскую (участвовавшие пехотные полки были укомплектованы в основном новгородцами). В результате забастовки железнодорожников, несмотря на окончание войны, полки вернулись домой лишь в начале апреля 1906 года. Впоследствии, в 1913 году, в Старой Руссе установили памятник с надписью «Доблестным Вильманстранцам, погибшим в боях Русско-японской войны 1904-1905 гг.» Император Николай II прислал недостающую сумму на его открытие. Новгородцы тоже хотели установить памятник погибшим воинам Выборгского полка. Бывший командир полка на аудиенции с Императором обсудили место установки (Царь выразил желание видеть памятник недалеко от Софийской площади, где Он благословлял полки). Вскоре Николаем II была утверждена модель памятника и дано разрешение на его установку. Но успели только заложить фундамент и начать работы по отливке бронзовых фигур, помешала начавшаяся Первая мировая война. На этом фундаменте новая власть впоследствии установила памятник Ленину…
Следующий Августейший визит в наш город состоялся 11 декабря 1916 года, когда его посетили Императрица Александра Феодоровна с дочерьми.
Так получилось, что к приезду высоких гостей новгородские дворяне подготовились ещё за год до этого, в 1915-м. Тогда кто-то из столичных знатных персон по дружбе передал информацию о возможном приезде Государя, и новгородцы продумали два варианта встречи: первый – если Императорская семья приедет в полном составе, и второй – если Царь будет один, в этом случае торжественная встреча проходила бы без присутствия жен и дочерей дворян. Конечно, такой визит ожидался как громкое и памятное событие. Уездным дворянам планировалось сразу разослать срочные приглашения, с ожиданием от них быстрых ответов о возможности прибытия в губернский центр – чтобы рассчитать количество специальных пропусков для встречи на вокзале и числа мест для проведения чаепития в Дворянском собрании. Подробно обсудив, как это будет, составленный план отложили до момента надобности, и этим облегчили себе подготовку к практически внезапному приезду Императрицы, о котором официально сообщили всего за пару дней до него. Но такого варианта никто не предполагал – Императрица приехала с четырьмя Великими Княжнами и небольшой свитой, без мужа и Цесаревича (Они в это время находились в Ставке).
Новгородское дворянство конечно же было в курсе подробностей апрельского посещения Государем Твери в 1915 году – тверской предводитель дворянства П.П. Менделеев дружил с новгородским губернатором М. В. Иславиным ещё со времён их учёбы в Санкт-Петербурге, в императорском училище правоведения*. Николай II остался очень доволен тверским приёмом, и дворянские сообщества других городов старались узнать, что именно так впечатлило Императора. А мы с вами можем прочесть об этом в мемуарах П.П. Менделеева, «Свет и тени в моей жизни».
Ларец с пряниками для Наследника
Для достойной встречи Государя в Твери в срочном порядке подготовили помещение уездного воинского присутствия, которое на тот момент выглядело так: грязь, копоть, измызганный паркет, пожелтевшие колонны посреди зала. «Этот ужас» превратили за две ночи и один день в зимний сад. Пол затянули зелёным сукном, стены отмыли, везде расставили кадки с пальмами и цветами из московских оранжерей. Из собственной гостиной предводителя дворянства перенесли всю мебель и взяли столовое серебро, у других местных деятелей тоже позаимствовали самое лучшее. Б.В. Штюрмера, имевшего в столице высокий чин и огромный опыт по церемониям (с 1894 по 1896 г. он побыл и новгородским губернатором) попросили привезти всё нужное для царского чая.
После посещения собора и губернаторского дворца, где Царю были представлены высшие должностные чины Тверской губернии, Он прибыл в здание Дворянского собрания и остановился у входа в зал, в своей обычной манере поглаживая от волнения ус. Дворяне встретили Государя дружным «ура» и гимном, после приветственной речи вручили 10 тысяч рублей пожертвований на военные нужды, а также подарки для Императорской семьи, в числе которых был ларец с пряниками для Наследника. Царь позже пошутил, что этими пудами пряников они, наверное, желают погубить Цесаревича, и что Он не получит ни одного, т. к. это Ему вредно.

Осмотрев сначала госпиталь в здании Дворянского собрания и получив от тверского общества гору розового постельного белья для госпиталей Государыни (за это Александра Феодоровна прислала на следующий день ласковую благодарственную телеграмму), Николай Александрович прошел в гостиную. Во время пения «Боже, Царя храни» Ему пришлось довольно долго стоять, но в ответ на просьбы присесть Царь возразил, что не может этого сделать, пока дамы стоят. Он опустился на приготовленный Ему диван только после того, как уселись все дамы. Держался Государь просто, говорил весело и оживленно, с большой искренностью. Он очаровал всех своим обаянием и приветливостью. С удовольствием принимал угощение: пасху с куличом, чай, сандвичи, маленькие пирожные, сладкий пирог, землянику. На подачу французского шампанского из довоенных запасов было заранее получено разрешение в условиях сухого закона войны. По этому поводу Царь сказал, что в исключительных случаях можно, а в разговоре о пользе для народа запрета крепких напитков, даже несмотря на распространение самогона, добавил: «Я думаю, водку надо запретить раз и навсегда. А употребление вина следует после войны разрешить».
«Мне, право, не хочется от вас уезжать. Мне у вас так хорошо!»
Рассказывая подробности о быстром взятии Перемышля – важной, казавшейся непреступной крепости, Николай Александрович улыбался и закрывал лицо руками со словами «совестно, совестно сказать, насколько ничтожны были наши военные силы по сравнению с перемышльским гарнизоном». Говорил о посещении Львова, Тулы, брянских заводов. О том, как впечатлен патриотичным настроением рабочих, как понятна и близка Ему душа русского народа, как Он в неё верит, что Он чувствует с народом подлинное душевное слияние, и что при таком единении мы должны победить. Сопровождавший Государя граф В.Б. Фредерикс несколько раз издали показывал Ему свои часы, намекая, что им давно пора ехать дальше по расписанию, но Николай Александрович делал вид, что не замечает знаков, и остался за чаем гораздо дольше положенного – более полутора часов. Перед тем, как встать, обратился к жене тверского предводителя дворянства: «Мне, право, не хочется от вас уезжать. Мне у вас так хорошо!» Чувствовалось, что эти слова шли от самого сердца. Когда жена предводителя начала делать глубокий реверанс, удержал её от этого. При уходе Царя вновь звучало неистовое «Ура» и нескончаемое пение гимна, с которым все вышли на улицу. Уже отъезжая, Государь обернулся и приветливо кивнул головой. Дворяне махали Ему вслед треуголками. Казалось, в старой барской усадьбе многочисленная семья помещика принимала давно желанного гостя, который отдохнул душой в этой теплой обстановке. В госпиталях раненые и врачи несколько дней потом находились под впечатлением, вспоминали каждое слово Царя, малейший жест.
Вечером состоялся обед в императорском поезде, на который пригласили высшие должностные лица Твери. Обед состоял из трёх блюд и кваса, также был стол с лёгкой закуской. Государь не пил, но гостям предложил выпить водки. Вина не подавали. В вагоне-столовой за довольно узким столом по одну сторону в центре сидел Государь и Его свита – контр-адмирал К.Д. Нилов, В.Ф. Джунковский, князь В.Н. Орлов (он возил Государя по Твери в качестве шофера), флигель-адьютанты граф Д.С. Шереметев и К.А. Нарышкин, друг детства Государя. Напротив Царя расположились граф В.Б. Фредерикс и все приглашенные тверские нотабли. Во время обеда говорили о войне. Запомнились слова Фредерикса о том, что у него в Германии много близких приятелей и друзей, но он не может представить себе, как с ними встретится после войны, сможет ли пожать им руку – между ними всегда теперь будут стоять воспоминания об учиненных германцами зверствах. На это П.П. Менделеев рассказал, что у них в Твери немцы остаются самоуверенными и заносчивыми даже в плену – немецкие офицеры гордо разгуливают по набережной Волги, толкая встречных и не уступая никому дороги. Государь тут же приказал губернатору запретить пленным гулять в центре города, только на окраинах. Он также возмущался их жестокости и удивлялся, куда делась пресловутая немецкая культура. Говорил, что ради блага всего человечества нужно раз и навсегда сломить эту грубую силу.
Уже осенью 1915 года Государь сам стал Верховным Главнокомандующим. Положение на фронте было сложным. О подобных тверскому визитах уже не могло быть речи.
Новгород – «восхитительный старинный город»
Итак, Царица и четыре Великие Княжны приезжали в декабре 1916 года, всего на один воскресный день. Впервые за долгий период Александра Феодоровна заранее официально сообщила о своей поездке (этот нюанс Она подчеркнула в своём письме мужу, объяснив причину – «чтобы увидеть больше народу»). Обязательным предполагалось посещение лазаретов, поэтому ошибочно считать Их приезд был «частным визитом для осмотра соборов». Царь в ответном письме успокаивал супругу будущими приятными впечатлениями и тем, что «новгородский губернатор превосходный человек», прося передать ему свой поклон.

Были соблюдены все формальности: предварительный план визита, составленный губернатором М.В. Иславиным, накануне отъезда утвердили в императорской службе протокола. Приятно читать, что Царица потом подтвердила положительную характеристику губернатора – «он был безупречен, и организовал все разъезды таким образом, что мы всюду поспевали вовремя, и подпускали толпу близко к нам». А Новгород Царица назвала «восхитительным старинным городом»: «Так много исторического в Новгороде, что чувствуешь себя как бы перенесенной в другую эпоху!» Великая Княжна Ольга Николаевна написала так: «Город маленький, и этим симпатичен». И тоже хвалила губернатора: «Иславин молодец, не позволял нигде слишком долго застревать, собирал раненых из маленьких лазаретов в один большой и т.д.».
Подробную картину этой воскресной поездки можно составить, используя воспоминания участников событий, переписку Императорской четы, заметки в прессе того времени, а также письма Великих Княжон.
Об этой поездке Александра Феодоровна думала ещё в 1915 году, но отложила её – главной причиной было несоответствие узкоколейных ж\д путей габаритам императорского поезда. Модернизировали железную дорогу до Новгорода лишь в марте 1916 года, хотя собирались это сделать на протяжении почти 50 лет. Узкоколейные пути надолго ограничили торговые возможности Новгорода – в Чудово все товары приходилось перегружать в другие вагоны, а это увеличивало и расходы, и время на перевозку. Во время Первой мировой войны узкоколейка приносила дополнительные неудобства при перемещении раненых и доставке военных грузов. Именно военные потребности ускорили прокладку соответствующих этому железнодорожных путей. Внимательная к деталям Великая Княжна Ольга Николаевна в своём письме отцу отметила, что поезд после Чудово «свернул на новую дорогу».
На железнодорожной станции Новгорода гостей встречали губернатор Михаил Владимирович Иславин c супругой Марфой Валериановной (она подарила Императрице букет цветов), а также другие важные официальные лица, среди которых были губернский предводитель дворянства князь Павел Павлович Голицын и уездный предводитель дворянства Евгений Александрович Лутовинов. Начальник гарнизона произнёс рапорт, а городской голова и члены Новгородской городской управы подготовили хлеб-соль и приветственное слово.
«Стоустная молва собрала по пути Государыни чуть ли не весь Новгород и его окрестности»
Новгород принял Августейших гостей очень тепло. Эскадрон улан и запасной полк кричали «ура». Присутствовали многочисленные гимназисты, которым губернатор после этого дня объявил внеочередные выходные. Играл оркестр. Проезд по городу также сопровождался криками «ура» от новгородцев – вся Соборная площадь и ближайшая к ней улица были полны народом. Многие плакали от умиления. Порядок благодаря усилиям полиции сохранялся образцовый, да и сама публика, по мнению авторов репортажей об этом визите, «понимала всю святость встречи». «Стоустная молва собрала по пути Государыни чуть ли не весь Новгород и его окрестности» – так написали в прессе. «Волховский листок» констатировал: «11 декабря будет до гроба жизни в сердцах новгородцев, имевших счастье видеть обожаемую Царицу». Александра Феодоровна и сопровождавшая Её фрейлина Анна Вырубова даже почувствовали себя значительно лучше, чем накануне, и смогли самостоятельно пройти вверх по лестнице здания Дворянского собрания, хотя для Царицы были специально выделены несколько человек, чтобы помочь Ей в этом – донести на руках. Перед поездкой обе дамы слегли: Императрица с сердечными болями, Анна – с болями в ногах (последствия серьезной травмы в ж\д аварии), но визит не отменили.

Дополнительные подробности из писем Великих Княжон приближают тот день, 11 декабря 1916 года, к нашему времени, оживляя историю. Нам очень повезло, что из того малого количества дошедших до нас записей Великих Княжон сохранились именно те, что относятся к новгородской поездке. К сожалению, очень многое из личных дневников и переписки сёстры Романовы сожгли в Тобольске, перед отъездом в Екатеринбург. Каждая из Августейших дочерей в личном письме отцу рассказала о своих впечатлениях, с присущими тому времени эмоциональными сочетаниями слов – «ужасно хорошо», «страшно мило», и трогательно подписалась условными между ними прозвищами – «твой Вознесенец» (Татьяна), «твой Казанец» (Мария), «твой Каспиец» (Анастасия). Старшая Великая Княжна Ольга почему-то письмо про Новгород подписала «твой Пластун», хотя всегда обозначала себя по-другому – «твой Елисаветградец». Письма старших Великих Княжон – подробнее, младших – короткие. Например, в письме Анастасии от 15 декабря всего несколько строк: «Ты уже знаешь, как мы съездили в Новгород, Ольга тебе много писала об этом. По-моему, было хорошо! Так уютно было спать в поезде, и чувство было немного, как будто мы едем к тебе в Могилёв…». Татьяна написала другими словами, но про то же, что и младшая сестра – о сильном желании увидеться, снова приехать в гости в Могилёв, в Ставку: «Дорогой мой папа душка! Хорошо было, но жаль, что мы не могли на обратном пути свернуть от станции Чудово на Бологое и дальше. Надеюсь страшно, что ты к нам скоро приедешь…». Августейшие дочери своего отца обожали и очень скучали в разлуке. Дочерям Царь отвечал отдельными письмами, сохраняя особую связь с каждой.

Из дневников царских дочерей известно, что накануне поездки в Новгород у девочек с утра были уроки (немецкий, французский и арифметика), после завтрака к 14 ч. Они вместе с матерью поехали на освящение лазарета Цесаревича Алексея, переехавшего в казармы 3 Стрелецкого полка (до этого лазарет находился в Военной академии), потом посетили ещё два лазарета. После традиционного чаепития в 17 часов сёстры катались в тройке, потом читали, музицировали, посетили вечернюю службу в храме. Для нас сейчас этот распорядок приёма пищи непривычен, но тогда в Царской Семье было так: утренний чай в 9 утра, в 13 ч. ланч, который называли завтраком (в воскресенье он мог начаться на полчаса раньше), обедали в 20 часов. В этот вечер пообедали все у Анны Вырубовой, где присутствовал и Григорий Распутин, благословивший Их на поездку, потом поехали в лазарет.
Из лазарета субботним вечером 15 декабря Александра Феодоровна и четыре Великие Княжны направились сразу в поезд, в нём Они и ночевали. Ночевать в поезде Великие Княжны очень любили, ведь по комфортности императорский поезд являлся практически дворцом на колёсах. Императрица написала мужу по поводу ночёвки в поезде: «Девочки ликуют, но мне будет печально одной [без тебя]». Поезд тихо и плавно выехал из Царского Села в 3-10.
Александра Феодоровна с дочерьми за день визита (с 9-30 утра, когда прибыл поезд, и до момента Их отъезда ближе к шести часам вечера) успели побывать на двухчасовой службе в Софийском соборе, в пяти лазаретах, даря каждому раненому нательные иконки Казанской Богородицы. Посетили земскую больницу, Татьянинский детский приют, а также Знаменский собор, Десятинный и Юрьев монастыри. «Досадно, что все это пришлось проделать в такой спешке и нельзя было в достаточной мере отдаться молитве перед каждой святыней и разглядеть все детали» – писала Царица мужу.

В тот день в Новгороде шёл снег, было 3о мороза, туманно и скользко, «налипали из снега каблуки», и Великие Княжны часто спотыкались. Пока не нашлось ни одной фотографии того визита, и во что могли быть одеты Августейшие гостьи, мы можем только догадываться. Например, из воспоминаний доктора Боткина мы знаем, что в его лазарет Государыня и Великие Княжны приезжали в темных пальто и шляпах. В дневниках ни Александра Феодоровна, ни Её дочери не упоминают, какая одежда на Них была в тот или иной день, считая это неважной деталью. С начала Первой мировой войны Августейшая семья перестала покупать себе новую одежду и даже сократила количество блюд за обедом. На свои личные средства Они оснащали санитарные поезда, содержали лазареты и медицинские склады. Очень часто и в поездках по России они были в форме сестер милосердия, Николай II и Цесаревич носили военные мундиры.
«Не в силе Бог, а в правде»
Новгородский архиепископ Арсений (Стадницкий) в приветственной речи, которую Царица назвала трогательной, сказал, что вместе с ним Императрицу и Её дочерей встречают все нетленные новгородские святые, и напомнил, что перед престолом Святой Софии молился св. благоверный князь Александр Невский перед борьбой с тевтонцами, предками нынешних врагов России. Что здесь князь сказал свои знаменитые слова: «Не в силе Бог, а в правде». И что теперь, «во имя этой Божией правды, два с половиной года сыны великой Русской земли, с мечом в руках и с крестом в сердце, стоят на страже Родины, оберегая целость и благо Святой Руси». Царицу новгородский архиепископ назвал ангелом утешения для раненых воинов.
Великие Княжны во время службы стояли позади матери и трогательно о Ней заботились, помогая подниматься с колен после молитв. Архиерейскую обедню сократили вдвое, хотя обычно она длилась 4 часа. Затем все гости обошли Софийский собор по периметру и приложились к святым мощам, специально открытым для такого события. На молитвенную память гости получили просфоры и иконы: Императрице вручили икону Святой Премудрости Божией (её Царица на следующий день отправила сыну в Ставку), Великой Княжне Ольге – икону святителя Никиты, Великой Княжне Татьяне – икону св. архиепископа Иоанна, Великой Княжне Марии – икону св. князя Владимира Ярославича, и Великой Княжне Анастасии – икону св. князя Феодора Ярославича.
После Святой Софии Царицу с Великими Княжнами повели в Древлехранилище старинных икон, которое располагалось в соседнем с собором большом архиерейском доме. Там же находился и епархиальный лазарет, в котором в то время лечились 41 раненый. Врач Н.Г. Чакалев рассказал о состоянии лазарета, а Императрица у каждого воина спросила имя и из какого он полка. Вместе с дочерью Марией Александра Феодоровна всем раненым повесила на шею серебряные образки Казанской Божией матери, в том числе и тем, кто не мог встать с постели.
Про Древлехранилище и Александра Феодоровна, и девочки детально рассказали в своих письмах, ведь Николай II по-особенному относился к старинным иконам. С 1913 г. из своих личных средств он ежегодно выделял по 30000 рублей на созданное в Русском музее Древлехранилище памятников русской иконописи и церковной старины. В построенных недалеко от Александровского дворца Феодоровском соборе и Феодоровском городке поместили только древние иконы. Александра Феодоровна поделилась с мужем подробными впечатлениями о новгородских экспонатах: «В музее сокровища, собранные из старых церквей и монастырей три года назад. Дивные старинные иконы, заброшенные, покрытые пылью. Их стали очищать, и проглянули яркие краски. Очень интересно, мне очень хотелось бы в другой раз подробно рассмотреть всё это, тебе бы это тоже понравилось». Пояснения по экспонатам давал заведующий Древлехранилищем дьякон А. Никифоровский. Вообще Древлехранилище было доступно и обычным новгородцам: оно работало 4 дня в неделю по 2 часа, с бесплатным посещением.
Завтракали Августейшие гости в 13 часов «дома» – в императорском поезде. Ольга Николаевна в своём дневнике подробно перечисляет тех, кто с Ними завтракал: «Кроме обыкновенных – Аня [Вырубова], Настенька [Гендрикова], гр. Апраксин, Ресин, Ходоровский, Колесников, начальник дороги, Иоанн, Андрюша и губернатор». В письме Царицы об этом короче, но эмоциональнее: «Солдаты уже разошлись (к счастью). Я позавтракала на диване, Аня в своём купе. У детей были Иоанчик, Андрюша, а также Иславин».
«Будет большая каша…»
В 14 ч. Августейшие гости поехали в небольшую земскую больницу, потом в Десятинный монастырь. Епископы Арсений Cтадницкий и Алексей Симанский, а также Великие Князья Иоанн Константинович и Андрей Александрович Романовы всюду Их сопровождали.

Вот фрагмент письма Императрицы к мужу, с подробностями о важной для Неё встрече с новгородской старицей Марией Михайловной в келье Десятинного монастыря, где Она пробыла всего 11 минут: «Я посидела минутку в комнате игуменьи, а затем попросила, чтоб меня провели к старице Марии Михайловне, и мы прошли к ней пешком по мокрому снегу. Она лежала на кровати в маленькой темной комнатке, а потому мы захватили с собой свечку, чтобы можно было разглядеть друг друга. (Дополнение из письма Ольги: «Свечка быстро потухла, и зажгли что-то вроде керосиновой лампы без абажура. Монахиня слезилась и держала её. Руки у старицы худые и тёмные, прямо мощи»). Ей 107 лет, она носит вериги, сейчас они лежат около нее. Обычно она беспрестанно работает, шьет для каторжан и для солдат, притом без очков. Она седая, у нее милое, тонкое, овальное лицо с прелестными, молодыми, лучистыми глазами, улыбка ее чрезвычайно приятна… Мы слишком торопились и кругом была суета, а то бы я охотно с ней побеседовала подольше… Я благодарю Бога за то, что он дал нам ее увидеть».
Духовный сын старицы вспоминал, что в день визита Императрицы Мария Михайловна была больна и лежала, но, когда в келью вошла Государыня, старицу посадили в кровати. Государыня подошла и поцеловала её. Передав яблоко для Царя, старица Мария взяла Императрицу за руку, чтобы та поближе подошла, и на ухо предупредила беречься 1 марта. Императрица спросила: «Что же? Чернь будет бунтовать?». Старица ответила: «Будет большая каша». (Про эту «кашу» старица и раньше много рассказывала своему духовному сыну). Девочкам старица тоже что-то говорила, а затем в келью зашли князья Иоанн Константинович и Андрей Александрович, которым было велено служить верою и правдою Царю и Отечеству.
Старица Мария дала гостьям по образку и просфоре, и подарила икону Знамения, а потом всех благословила. И до визита, и после него старица часто молилась за Царскую Семью, чувствуя нависшую над ними беду. Подаренную старицей икону (с пометкой на обороте, от кого она) Александра Феодоровна летом 1917 года взяла с собой в ссылку. После жестокого убийства в Екатеринбурге этот образ обнаружили среди царских вещей.

После монастыря заехали в приют для детей беженцев, а в 15 часов столичные гости прибыли в Юрьев монастырь. «До Юрьевского монастыря вёрст 5 от города, дорога очень тряская, но ничего, доехали…» – писала Великая Княжна Ольга. Настоятелем этого монастыря был в то время отец Никодим (Вокресенский), хорошо знакомый Царю – они вместе принимали участие в Восточном путешествии 1890-1891 гг. на крейсере «Память Азова»: за семь месяцев тогда посетили Грецию, Индию, Цейлон, Сингапур, Яву, Сиам (современный Таиланд), Китай и Японию. Во Владивостоке Цесаревич сошёл на берег, чтобы проехать по Дальнему Востоку и Сибири, а отец Никодим продолжил плавание, за 3 года совершив полное кругосветное. Привет «от старого Никодима, который тебя боготворит», Царица передала мужу в письме. Настоятель оказал Им тёплый приём, встретив у Святых ворот Юрьева монастыря с крестным ходом. Выйдя из автомобиля, Государыня с дочерьми присоединились к крестному ходу до Георгиевского собора, где после краткого молебна приняли благословения от иеросхимонаха Кирилла и от самого настоятеля монастыря. В Спасском соборе дочери спускались в сопровождении архиепископа Арсения в усыпальницу архимандрита Фотия и графини Орловой-Чесменской, а затем Царица побеседовала с настоятелем в его покоях. В Юрьевом монастыре гости пробыли больше часа, а затем уехали пить чай в Дворянское собрание.
Далее Царица с дочерьми посетили Знаменский собор, где приложились к древним святыням Новгорода – чудотворной иконе Знамения и чудотворной иконе Святителя Николая, доставленной из Николо-Дворищенского собора. В подарок Царице вручили икону Знамения в дубовом футляре, подчеркнув, что этот образ новгородцам очень дорог, эту икону здесь называют «Хозяйкой» и «многовековой защитницей» города, и пожелали такого же покровительства и защиты Августейшему семейству. Там же Императрица купила для мужа образ Богоматери, прося Его позже в письме повесить икону над своей кроватью. Знаменский собор со сводами и очень крутыми лестницами Царице очень понравился. После собора поехали в необычную часовню неподалёку, Печерскую часовню Владимирской Божией матери, где Богородица в начале 18 века «явила свой лик в печке», а точнее – в печи кельи одной из монахинь (раньше на этом месте располагался Павлов Варецкий монастырь, основанный в 1238 году женой новгородского посадника в память об убитом муже). Лик, проявившийся на задней внутренней стенке печи, прикрыли стеклом и украсили драгоценными камнями, а из кельи устроили часовню. В ХIХ веке на этом месте поставили новую каменную часовню, в которой каждый четверг читали акафист. Здесь, в часовне, Александра Феодоровна и Её дочери молились на коленях. Икона мироточила – все присутствовавшие почувствовали её благоухание.
«Не страшись креста своего»
Перед отъездом столичные гости побывали в двух лазаретах – земском и ещё в одном, недалеко от вокзала, в котором заранее собрали раненых из 5 лазаретов (всего около 400 человек). Среди раненых Великие Княжны узнали некоторых, об одном из них Ольга написала отцу «твой конногвардеец». У Николая II была феноменальная память, Он мог вспомнить не только офицеров, с которыми встречался даже мельком, на парадах и смотрах, но и солдат.
Вечером на новгородской железнодорожной станции снова собрался народ, провожая Августейших гостей. Купеческая делегация вручила Царице корзину с фруктами. Вновь стояли шеренгами войска. Трубачи запасного полка играли «Уланский марш», а потом какие-то вальсы, потому что «долго грузили оба мотора» (Царская Семья при визитах в другие города возила свои собственные автомобили на специально сконструированной крытой ж/д платформе. Вагон-гараж цеплялся к хвосту императорского поезда, машины въезжали в него по специальным металлическим съездам).
Александра Феодоровна в своём письме предложила мужу вернуться в Новгород весной 1917 года: «когда наводнение, тут бывает ещё лучше – можно подъезжать к монастырям на моторных лодках». Николай Александрович с этим предложением согласился. Решив, что сочетание лазаретов и святых мест в таких поездках будет благотворно, Императрица начала обсуждать подобные маршруты в Тихвин, Вологду и Вятку. Но так получилось, что Новгород стал последним российским городом, который Александра Феодоровна посетила как Императрица. Символично, что это был город, в котором когда-то и зародилось Русское государство.
Позволю себе не согласиться с распространенным мнением, что поездка в Новгород «ввела Царицу в заблуждение и дезориентировала в отношении ситуации в России». Наоборот, она придала Ей сил и показала, что внушаемая Им высшими кругами информация о ненависти народа к Царской Семье всё же преувеличена. Александра Феодоровна даже выгнала из госпиталя в Царском Селе одного из офицеров, который позволил себе пошутить над новгородским путешествием – мол, народ подкупили, чтобы он принимал Царицу так хорошо. А после встречи в Десятинном монастыре со старицей Марией Михайловной у Царицы были слёзы благодарности, за слова «не страшись креста своего» и надежду. В письме мужу Она так и написала, что эта встреча произвела на неё бОльшее впечатление, чем разговор с Пашей Саровской в Дивеево, где звучали страшные пророчества беды и рек крови.
Из письма Александры Феодоровны 12 декабря 1916: «Сегодня всё болит, но стоило того. Новгород был крупным успехом! Хотя было очень утомительно, душа вознеслась так высоко и придала нам всем силы». Из дневника Ольги Николаевны от 13 декабря 1916: «Мама дома, всё болеет от усталости после поездки». Но даже очень уставшая Императрица не сидела без дела – всё утро подписывала многочисленные рождественские открытки.
17 декабря: «Состояние моего сердца с некоторого времени ухудшилось. Я не давала себе отдыха, хотя имела на это полное право. Мне было необходимо бывать в госпитале, чтобы дать иное направление своим мыслям, приходилось принимать кучу людей – душевная напряженность за эти последние тяжёлые месяцы, конечно, должна была отразиться на слабом сердце. Эта прелестная поездка в Новгород в физическом отношении была очень утомительна, вот старая машина и пришла в негодность. Надеюсь, что мне удастся поправиться хотя бы к предстоящему Рождеству».
От себя и дочерей Императрица чуть позже послала в Новгород в подарок 3 серебряные лампадки в неовизантийском стиле, украшенные драгоценными камнями-кабошонами и гравированными надписями с именами вкладчиц: в Знаменский собор, в часовню Владимирской Божьей Матери на печке и старице. (Подлампадник одной из этих лампад сейчас хранится в Грановитой палате Новгородского Кремля). Старица также получила икону с изображениями св. царицы Александры и тех святых жён, имена которых носили дочери Императрицы, с подписями Императрицы и Их Высочеств на обороте иконы. Всё это привёз в Новгород по личной просьбе Императрицы князь Н.Д. Жевахов, обер-прокурор Синода. Старица Мария Михайловна из Десятинного монастыря умерла в конце января 1917 года. От Царицы на её гроб архиепископ Арсений привёз из Петрограда большой крест из белых живых цветов.
«Источники, заслуживающие «доверия»…»

За 5 дней до приезда Александры Феодоровны произошёл эпизод, который заставил новгородского губернатора Михаила Владимировича Иславина проявить максимальную гибкость и тактичность, лавируя между настроениями местного дворянства и Августейшими гостями. Из Петрограда в своё имение Выбити (тогда оно относилось к Старорусскому уезду) была выслана княгиня Софья Николаевна Васильчикова**, супруга бывшего новгородского губернского предводителя дворянства, князя Бориса Александровича Васильчикова, который в то время был крупным чиновником в правительстве. Поводом послужило дерзкое письмо княгини к Императрице, с обвинениями и перечислением сплетен о Государыне. В конце письма она предлагала Александре Феодоровне не вмешиваться в государственное управление страной, которое, по её мнению, приносило России вред. По свидетельству очевидцев, после прочтения этого письма Императрица побледнела, Её руки задрожали, от несправедливости обвинений у Неё на глазах появились слёзы. Император, который всегда старался быть выше подобной лжи, в этот раз не сдержался – написавшей непозволительное письмо княгине последовало требование немедленно покинуть Петроград. Газета «Русское слово», играя смыслами, написала 6 декабря 1916 года в короткой заметке, что Васильчиковы уехали «от столичной распутицы». К сожалению, во все эти слухи о Царской Семье действительно очень многие тогда верили. Выдумки обрастали подробностями, как снежный ком. Их даже печатали в газетах! Очень неприятно сейчас читать те продукты больной фантазии с «несомненно достоверными» деталями «из источников, заслуживающих доверия». Конкретных имён в таких статьях обычно не называли. И втройне неприятны эти статьи после знакомства с дневниками и письмами Августейших супругов, наполненных любовью и нежностью в каждой строчке.
После посещения Царицей Новгорода (которое в кулуарах назвали очередной «поездкой на богомолье», привычно убрав в тень основную цель – посещение лазаретов и приютов) столичные злопыхатели пересказывали друг другу новость, что новгородский губернатор был вынужден находиться с Государыней «в тет-а-тете» из-за игнорирования царского визита местными дворянами. Но заметка в газете «Русский инвалид», одной из популярных во время Первой мировой войны, сообщила о совместном чаепитии Императрицы с новгородскими с дворянами, что обескуражило сплетников. Об этом факте и о реакции на него Александра Феодоровна с удовольствием написала в своём письме мужу.
Действительно, уездный предводитель дворянства Иван Васильевич Аничков встретил Императрицу у здания Дворянского собрания с букетом цветов. Супруга губернатора, тоже дворянка, Марфа Валериановна Иславина, во время чаепития сидела рядом с Государыней и передала Ей 5000 рублей на благотворительные нужды, собранные местным женским комитетом, в который также входили дворянские жёны. Присутствовали на чаепитии и находившиеся на лечении в госпитале дворяне-офицеры, и медицинские сёстры госпиталя в здании Дворянского собрания (среди которых была и дочь новгородского губернатора Варвара).
По сохранившимися документам из личного архива И.В. Аничкова, сначала все дворяне Новгородской губернии получили уведомления о визите Государыни и приглашение на торжественную встречу Августейших гостей на железнодорожном вокзале утром 11 декабря, с просьбой вовремя оформить в полиции соответствующие пропуска. А следом за ним другое уведомление, что торжественная встреча отменяется и на вокзале будут только вечерние проводы. Вполне может быть, что не все дворяне из дальних уездов губернии смогли бы приехать в столь быстро менявшихся обстоятельствах, ведь вечерняя встреча уже предполагала ночёвку в Новгороде. А может, действительно, имел место какой-то негласный бойкот, и в этом случае действия губернатора по переносу времени торжественной встречи были мудрым решением.
В дневнике Великой Княжны Ольги Николаевны об этой поездке записано: «вечером на станции только музыканты». Возможно, что под словом «только» подразумевалось именно отсутствие дворян. В любом случае, простые новгородцы нашли возможность и тепло встретить, и тепло проводить Царскую Семью и сопровождавших Их лиц. В том, что Царица осталась не просто довольна поездкой, а воодушевлена, большая заслуга новгородского губернатора, сумевшего в сложной обстановке всё предусмотреть и правильно организовать. Личность этого скромного и очень порядочного человека, Михаила Владимировича Иславина, заслуживает отдельного подробного рассказа.
Ольга Осетрова,
представитель Союза ревнителей Памяти Императора Николая II
в Великом Новгороде.
Статья подготовлена специально для «Нашей Державы».
Ссылка на «НД» обязательна.
* Находясь в изгнании, П.П. Менделеев и М.В. Иславин состояли членами Союза ревнителей Памяти Императора Николая II.
** По-видимому, С.Н. Васильчикова осознала свою вину перед Государем и Государыней, т.к. в эмиграции она стала членом Союза ревнителей Памяти Императора Николая II.