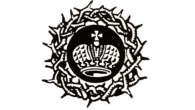Москва, 19 декабря – Наша Держава. Известный религиозный мыслитель и писатель Гилберт Честертон упоминает в этом философском эссе несколько ошибок, характерных для интеллектуалов…
«Те,
кого мы зовем интеллектуалами, делятся на два класса: одни интеллекту
поклоняются, другие им пользуются. Бывают исключения, но чаще всего это
разные люди. Те, кто пользуется умом, не станут поклоняться ему – они
слишком хорошо его знают, Те, кто поклоняется, – не пользуются, судя но
тому, что они о нём говорят.
От
этих, вторых, и пошла современная возня вокруг интеллекта,
интеллектуализма, интеллектуальной жизни и т.п. На самом деле
интеллектуальный мир состоит из кружков и сборищ, где говорят о книгах и
картинах, преимущественно новых, и о музыке (наиновейшей). Для начала
об этом мире можно сказать то, что Карлейль сказал о человеческом роде: почти все – дураки. Круглых дураков тянет к интеллектуальности, как кошек – к огню.
Я часто бывал в таких кружках, и всегда несколько участников оказывалось гораздо глупее, чем может быть человек.
Однако они так и светились оттого, что попали в интеллектуальную
атмосферу. Я помню почтенного бородатого человека, который, судя по
всему, и спал в салоне. Время от времени он поднимал руку, призывая к
молчанию, и предупреждал: «Мысль!», а потом говорил что-нибудь такое,
чего постеснялась бы корона. Наконец один тихий, терпеливый гость
(кажется, мой друг Эдгар Джипсон) не выдержал и крикнул: «Господа, вот
это по-вашему мысль? Нет, вот это?» Надо сказать, такими были почти все
мысли, особенно – у свободомыслящих. Конечно, и тут есть исключения.
Умных можно найти даже среди интеллектуалов.
Иногда умный и способный человек так тщеславен, что ему приятна и лесть
дураков. Поэтому он говорит то, что глупые сочтут умным, а не то, что
только умные сочтут правдой. Таким был Уайльд.
Когда он сказал, что безнравственная женщина не надоест вовек, он
ляпнул чистейшую бессмыслицу, в которой даже нет соли. Всякий мужчина,
особенно безнравственный, знает, как может осточертеть целое шествие
безнравственных женщин. Эта фраза – «Мысль», т.е. то, что надо
возвещать, предварительно подняв руку, сборищу не умеющих думать людей. В
их бедных, тёмных головах цинизм смутно ассоциируется с остроумием; вот
они и восхищаются Уайльдом,
когда он, махнув рукой на остроумие, ударяется в цинизм. Однако он же
сказал: «Циник знает всему цену, но не знает ценности», Это –
безупречный афоризм, в нём есть и смысл, и соль. Но если бы его поняли,
Уайльда немедленно бы свергли. Ведь его и возвеличили за цинизм.
Именно
в этом, интеллектуальном, мире, где много дураков, немного остроумцев и
совсем мало умных, бродит закваска модного мятежа. Из этого мира идёт
всякая Новая Разрушительная Критика (которую, конечно, свергает
наиновейшая раньше, чем она что-нибудь как следует разрушит). Когда нас
торжественно извещают, что мир восстал против веры, или семьи, или
патриотизма, надо понимать, что восстал этот мир, а вернее, что этот мир
всегда восстает против всего. Восстаёт он не только по глупости и
склонности к суете. У него есть причина. Она очень важна; и я прошу
всякого, кто намерен думать, тем более – думать свободно, отнестись к
ней внимательно хоть на минуту. Вот она: эти люди слишком тесно связаны с искусством и переносят его законы на этику и философию. Это – логическая ошибка. Но, как я уже говорил, интеллектуалы неумны. […]
Что
мы имеем в виду, когда называем такую картинку идиотской, пошлой или
тошнотворной, и даже конфеты не могут настроить нас на более кроткий
лад? Мы чувствуем, что даже хорошее может приесться, как приедаются
конфеты. Мы чувствуем, что это – не картина, а копия, точнее – копия с
тысячной копии, а не изображение розы, девушки или луны. Художник
скопировал другого, тот – третьего и так далее, в глубь годов, вплоть до
первых, искренних картин романтической поры. Но розы не копируют роз,
лунный свет не копирует лунного света, и даже девушка – копирует девушку
только внешне. Настоящие роза, луна и девушка – просто роза, луна и
девушка. Представьте, что всё это происходит в жизни; ничего
тошнотворного тут нет. Девушка – молодая особа женского пола, впервые
явившаяся в мир, а чувства её впервые явились к ней. Если ей вздумалось
встать на балконе с розой в руке (что маловероятно в наше время),
значит, у неё есть на то причины. Когда речь идет о жизни,
оригинальность и приоритет не так уж важны. Но если жизнь для вас –
скучный, приевшийся узор, роза покажется вам бумажной, лунный свет –
театральным. Вы обрадуетесь любому новшеству и восхититесь тем, кто
нарисует розу чёрной, чтобы вы поняли, как темен её пурпур, а лунный
свет – зелёным, чтобы вы увидели, насколько его оттенок нежнее и тоньше
белого. Вы правы. Однако в жизни роза останется розой, месяц –
месяцем, а девушки не перестанут радоваться им или хранить верность
кольцу. Переворот в искусстве – одно, в нравственности – другое. Смешивать их нелепо.
Из того, что вам опостылели луна и розы на коробках, не следует, что
луна больше не вызывает приливов, а розам не полезен чернозём.
Короче
говоря, то, что критики зовут романтизмом, вполне реально, более того –
вполне рационально. Чем удачней человек пользуется разумом, тем ему
яснее, что реальность не меняется от того, что её иначе изобразили.
Повторяется же, приедается только изображение; чувства остаются
чувствами, люди – людьми. Если в жизни, а не в книге девушка ждёт
мужчину, чувства её – весьма древние – только что явились в мир. Если
она сорвала розу, у неё в руке – древнейший символ, но совсем свежий
цветок. Мы видим всю непреходящую ценность девушки или розы, если голова
у нас не забита модными изысканиями; если же забита – мы увидим, что
они похожи на картинку с коробки, а не на полотно с последней выставки.
Если мы думаем только о стихах, картинах и стилях, романтика для нас –
надуманна и старомодна. Если мы думаем о людях, мы знаем, что они –
романтичны. Розы прекрасны и таинственны, хотя всем нам надоели стихи о
них. Тот, кто это понимает, живёт в мире фактов. Тот, кто думает только о
безвкусице аляповатых стишков или обоев, живёт в мире мнимостей.
В
этом мире и родился современный скептический протест. Его отцы,
интеллектуалы, вечно толковали о книгах, пьесах, картинах, а не о живых
людях. Они упорно тащили жизнь на сцену – но так и не увидели жизни на
улице; клялись, что в их книгах реализма всё больше – но в их беседах
его было всё меньше. Они ставили опыты, беспокойно искали угол зрения, и
это было очень полезно для дела, но никак не годилось для суждения о
законах и связях бытия. Когда они добирались до этики и философии,
получался какой-то набор бессвязных, безумных картин. Художник всегда
видит мир с определённой точки, в определённом свете; и порой этот свет
внезапен и краток, как молния. Но когда наши анархисты принялись
освещать этими вспышками человеческую жизнь, получился не реализм, а
просто-напросто бред. Определённый художник в
определённых целях может писать розу чёрной, но пессимисты вывели из
этого, что красная роза любви и бытия так черна, как её малюют.
Определённый поэт в определённых целях может назвать луну зеленой, а
философ торжественно заявляет, что луна кишит червями, как зелёный сыр.
Да,
что-то есть в старом добром призыве: «искусство для искусства». Правда,
понять его надо чуть иначе: пусть люди искусства занимаются искусством,
а не чем другим. Когда они занимаются моралью и религией, они вносят
туда власть настроения, дух эксперимента, дух тревоги, столь уместные в
их прямом деле. Каковы бы ни были законы и связи человеческой жизни,
вряд ли они действительно меняются с каждой модой на рифмы или на брюки.
Эти законы объективны, как чернозем или прилив, а вы не освободитесь от
приливов и чернозема, объявив старомодными розу и луну.
Я
не меняю взглядов на эти законы, потому что так и не понял, с чего бы
мне их менять. Всякий, кто слушается разума, а не толпы, может
догадаться, что жизнь и теперь, как и во все времена, – бесценный дар
Божий; доказать это можно, приставив револьвер к голове пессимиста. И
здравый смысл, и жизненный опыт говорят нам, что романтическая
влюблённость – естественна для молодости, а в более зрелые годы ей
соответствуют, её продолжают супружеская и родительская любовь. Тех,
кого заботит правда, а не мода, не собьёт с толку чушь, которой
окутывают теперь всякое проявление раздражительности или распущенности.
Те же, кто видит не правду и ложь, а модное и немодное, – несчастные
жертвы слов и пустой формы. Их раздражают бумажные розы, и они не верят,
что у живой розы есть корни; не верят они и в шипы, пока не вскрикнут
от боли. А всё дело в том, что современный мир пережил не столько
нравственный, сколько умственный кризис. Смелые Современные Люди смотрят
на гравюру, где кавалер ухаживает за дамой в кринолине, с той же
бессмысленной ухмылкой, с какой деревенский простак смотрит на чужеземца
в невиданной шляпе. У них хватает ума только на то, чтобы подметить:
теперь девушки современно стригутся и ходят в коротких юбках, а их
глупые прабабки носили букли и кринолины. Кажется, это вполне
удовлетворяет их неприхотливый юмор. Снобы – простые души, вроде
дикарей. Вернее, они похожи на лондонского зеваку, который лопается от
хохота, услышав, что у французских солдат синие куртки и красные
рейтузы, а не красные куртки и синие рейтузы, как у нормальных англичан.
Я не меняю ради них своих взглядов. Стоит ли?».
Гилберт
Честертон, Упорствующий в правоверии, в Сб.: Самосознание европейской
культуры ХХ века: мыслители и писатели Запада о месте культуры в
современном обществе / Сост.: Р.А. Гальцева, М., «Политиздат», 1991 г.,
с. 215-218.