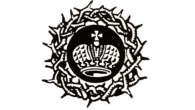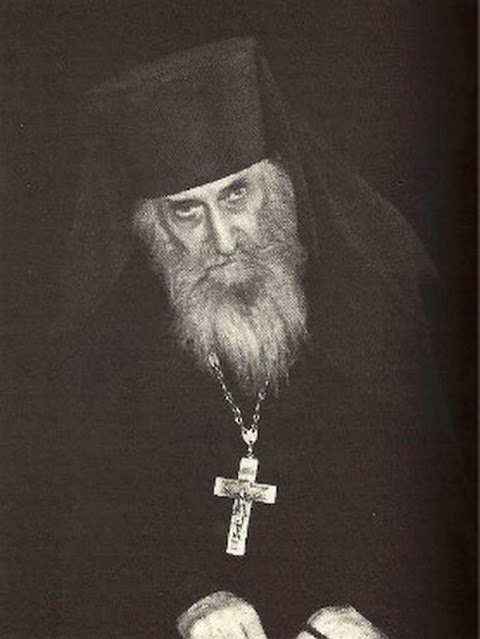Джорданвилль, 3 ноября – Наша Держава (Архимандрит Константин (Зайцев). Есть ли у Россіи будущее? Въ прошломъ ключъ нашего будущаго — только въ немъ. Прошлое наше умерло? — Нѣтъ тогда у насъ будущаго. И не только у насъ. Кончилась тогда Исторія. Если же мы хотимъ дѣйствительно строить будущее — опредѣляя этимъ судьбу не только нашего отечества, но и всего міра — должны мы отчетливо понимать, почему именно историческаго будущаго мы строить не можемъ, не возвращая къ жизни прошлаго.
Трезво должны оцѣнивать мы наше прошлое — и въ его промыслительномъ значеніи общемъ, и въ ходѣ его конечнаго развертыванія, приведшемъ къ катастрофѣ. Вотъ почему возвращаемся мы къ темѣ, смущающей нерѣдко наше сознаніе — къ разсмотрѣнію духовной качественности Россійской Имперіи, въ сопоставленіи съ тѣмъ заданіемъ нашего отечества, выполненіе котораго украсило наименованіе «Русь» эпитетомъ привычнымъ — «Святая».
Императорскую Россію нерѣдко противупоставляютъ Россіи допетровской по признаку, якобы утраты Имперіей присущей ранѣе Россіи благодати, дававшей ей право именоваться Святой Русью. Это сужденіе искажаетъ природу Имперіи Россійской, призванной къ жизни именно съ заданіемъ продолжать нести святую миссію, воспріятую Московской Русью. Поскольку даже уходила отъ Православія Имперія, она продолжала все же быть хранилищемъ могущественнымъ Святой Руси, въ этомъ обрѣтая промыслительный смыслъ своего бытія. Независимо отъ преходящихъ замысловъ смѣняющихся вождей и строителей Россіи Императорской, въ нѣдрахъ ея, уходя корнями въ глубь незыблемо-стойкаго народнаго быта, продолжала жить Святая Русь. Взаимоотношенія съ ней Имперіи мы и попытаемся бѣгло разсмотрѣть.
+ + +
Упираемся мы въ проблему петровскихъ реформъ. Предметное ихъ содержаніе надо прежде всего уяснить — въ отдѣльности отъ оцѣнки личности Петра. Тутъ надо различать интересъ къ Западу внутренній, по мотиву увлеченія его культурными достиженіями, и интересъ внѣшній, прикладной, утилитарный, по мотиву инструментальнаго использованія этихъ достиженій для самоусиленія — въ цѣляхъ, въ конечномъ счетѣ, усиленія своей сопротивляемости той же Европѣ. Трудно точно измѣрить соотношеніе этихъ двухъ мотивацій, но эту двойственность надо имѣть всегда въ полѣ зрѣнія. Вынужденная стать ученицей Европы, Россія, пусть и увлекаясь въ той или иной мѣрѣ Европой, не становилась слѣпой ея подражательницей. Больше того: она могла помышлять о времени, когда, побивая Европу ея же оружіемъ, въ силахъ она будетъ повернуться къ ней и спиной. Еще больше. Она могла помышлять и о томъ, чтобы повелительно сказать Европѣ нѣкогда и свое слово…
Въ своихъ реформахъ Петръ не былъ ужъ такимъ новаторомъ. Москва привычно пользовалась уроками Европы, и это не только въ дѣлѣ военномъ: Нѣмецкую слободу не вычеркнешь. Вліяніе Запада наблюдалось замѣтно при дворѣ Алексѣя Михайловича — и не только чрезъ посредство выходцевъ съ русскаго Запада, но и въ непосредственномъ общеніи съ Европой. Петръ лишь заострилъ этотъ двоякій интересъ, создавъ двоякій же конфликтъ: внѣшній, между новаторствомъ «ведущихъ» и охранительствомъ «ведомыхъ», съ одной стороны, и внутренній, между церковной совѣстью и гражданскимъ долгомъ, съ другой.
Первый конфликтъ общеизвѣстенъ въ своей грубости. Ее можно извинять какъ эксцессъ въ борьбѣ разумнаго реформаторства съ коснымъ сопротивленіемъ. Но такова была сила впечатлѣнія отъ ея чрезмѣрностей, что ихъ результатъ можно уподобить «душевной травмѣ», затрудняющей иногда даже для отдаленнаго потомства объективную оцѣнку петровскихъ реформъ. Основной конфликтъ все же не здѣсь. Не въ общественныя формы онъ облекался, для всѣхъ наглядныя: онъ возникалъ и зрѣлъ въ душѣ русскаго человѣка.
Реформы Петра были актомъ самосохраненія не отъ униженія, а отъ уничтоженія европейской агрессіей: глубокій смыслъ заключался въ перенесеніи мощей св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго въ Невскую столицу. Поучительно въ этомъ отношеніи ознакомленіе съ церковной службой установленнаго по этому поводу праздника (30 авг.), когда одновременно праздновалась и побѣда надъ шведами. Но какъ, подъ этимъ угломъ зрѣнія, благопріятно ни оцѣнивать дѣло Петра, оно, въ цѣломъ, не могло не ранить церковной совѣсти русской и не сѣять внутренней смуты. Да, сохранена была Россія, но не малой цѣной. Продолжала она быть Православнымъ Царствомъ, но лишь въ разрозненныхъ его элементахъ, объединяемыхъ Православнымъ Царемъ: не въ прежней монолитной цѣлостности.
Имперія продолжала быть Третьимъ Римомъ, осуществляя, преемственно отъ Византіи Россіей взятую, миссію охраны въ мірѣ Православной Церкви. Но была Москва Православнымъ Царствомъ въ смыслѣ болѣе глубокомъ. Въ ней симфоническое единство Церкви и Царства означало нѣкое и органически-созвучное, намѣренно-согласованное со-бытіе, обнимавшее все. Свѣтскости, отчужденной отъ Церкви, не знала Москва. Обособленнаго отъ Церкви на Москвѣ ничего не найдешь, какъ ни шарь по самымъ потаеннымъ закоулкамъ. Если что и оказывалось какъ бы внѣ Церкви, то не въ смыслѣ дѣйствительной внѣ-церковности, а въ планѣ церковно-окрашенной борьбы. Равнодушной къ Церкви самобытности нельзя представить себѣ на фонѣ московской жизни.
Ко времени Петра обнаружилось, чтоь такая Русь — несовременна. Чѣмъ-то безнадежно устарѣлымъ явилась она въ столкновеніи съ Западомъ — обновленнымъ. Пока имѣла дѣло она съ Востокомъ, являла она себя Нео-Византіей, не только успѣшно отражавшей агрессію нехристіанскаго Востока, но и сумѣвшей частично вобрать его въ себя и даже ассимилировать себѣ. И съ Западомъ, пока онъ оставался церковно-средневѣковымъ, являя собою, вмѣстѣ съ тѣмъ, отрасль и порожденіе Римской имперскости, Русь оставалась на равной ногѣ, будучи въ силахъ отразить натискъ, поскольку вниманіе Запада, въ видѣ исключенія, обращалось на русскій востокъ. Церковный Западъ не былъ страшенъ Россіи. Такимъ сталъ Западъ расцерковленный, облекшійся въ образъ мощныхъ національно-государственныхъ образованій. Не «крестъ», обращенный противъ «схизматиковъ», несъ на своихъ знаменахъ новый Западъ. Свѣтское могущество устремлялось на востокъ, способное съ каждымъ поколѣніемъ повышать ударность своей агрессіи.
Облегчалась этимъ для Россіи учеба западническая, теряя всякую почти окраску конфессіональную. Но не будучи направлена противъ Церкви Православной, агрессія Запада, въ существѣ своемъ, была обращена вообще противъ Церкви. Возникалъ новый міръ — рядомъ съ Церковью, и въ этомъ мірѣ и солидарность и отталкиванія опредѣлялись уже чѣмъ то существенно инымъ, чѣмъ отношеніе къ церковной Истинѣ. Надо ли говорить о томъ, какой ядъ несла, какъ учительница, подобная Европа Россіи?
Вся жизнь въ Церкви — вотъ аксіома Москвы. Обновленный Западъ успѣшно преодолѣвалъ эту аксіому, какъ пережитокъ коснаго средневѣковья. До Петра общеніе съ Западомъ не могло поколебать эту аксіому для Москвы. Ко времени Петра мобилизація силъ личности и общества во имя организаціи «міра сего», во злѣ лежащаго, довела наступательную активность Запада до мѣры ранѣе не представимой. Россія, поскольку не хотѣла она стать легкой жертвой такой Европы, должна была стать на путь такой же мобилизаціи и своихъ силъ. Въ этомъ смыслѣ петровская эпоха равнозначна была европейскимъ «возрожденію», «гуманизму», «реформаціи», даже зачаткамъ «просвѣщенія» — не въ томъ смыслѣ, чтобы Петръ принуждалъ русскихъ людей идейно переживать эти явленія, а въ томъ, что онъ, усваивая практическія достиженія Запада, требовалъ отъ Россіи (тутъ уже ни передъ чѣмъ не останавливаясь), чтобы она нормой признала изведеніе жизни изъ церковной ограды. То ли, или другое онъ предписывалъ, тѣми или иными мѣрами дѣйствовалъ, на томъ ли то или на иномъ участкѣ жизни, было ли тутъ даже въ какой то мѣрѣ столкновеніе, намѣренное или ненамѣренное, съ церковной Истиной, или не было этого — главное значеніе все же было не въ этомъ. Существенно важно было то, что жизнь, во всемъ ея объемѣ, выводилась за ограду Церкви.
Пусть никто не покушался отнять отъ нея ея первенствующее положеніе, пусть была она поддерживаема и охраняема — внѣ Церкви, рядомъ съ Церковью оказывалось все. Государство, армія, общество, школа, наука, искусство, свѣтская жизнь въ ея внѣшней обыденности — все, буквально все оказывалось теперь отъ Церкви обособленнымъ. Символичнымъ было введеніе гражданскаго новолѣтія, рвавшаго традицію Церкви и предоставлявшаго Церкви обособленно творить свое новолѣтнее торжество, повторяя для себя отдѣльно чинъ новолѣтія, отнынѣ служимый для всѣхъ и вся 1 января. Съ полнымъ правомъ, если говорить о заданіи, насильственно осуществляемомъ Петровской Россіей, можно отнести уже къ ней новую аксіому, имперскую, вычеканенную впослѣдствіи императрицей Екатериной, коей она начала свой Наказъ: «Россія есть государство европейское».
Открывая для Россіи новую эру, Петръ двузначнымъ дѣлалъ ея бытіе. Оставалась Россія Православнымъ Царствомъ, возглавляемымъ Удерживающимъ, но монолитность ея быта разбивалась безпощадно, и одинъ только образъ Царя-Императора, олицетворяя Православное единство этого Царства, воплощалъ идею Третьяго Рима.
Легко представить себѣ тяжесть петровской реформы для русскаго сердца. То, что съ такимъ трудомъ, съ такими жертвами, съ такимъ энтузіазмомъ вѣры, съ такой преданностью Церкви было добыто Москвой и что при всѣхъ, самыхъ неимовѣрныхъ, тяготахъ жизни сторицею вознаграждало русскаго человѣка, если только не становился онъ на путь бунта, ереси или раскола, а именно нерушимый душевный покой, было теперь утрачиваемо: рядомъ съ Церковью возникалъ нѣкій новый, ей чуждый, міръ, и надо было разбираться въ немъ, въ его многообразныхъ явленіяхъ, надо было что-то рѣшать, какъ-то дѣйствовать, съ нимъ считаясь, какъ съ повелительно и неотвратимо обнимающей со всѣхъ сторонъ атмосферой; надо было въ этомъ мірѣ — жить.
Естественно могло возникать всецѣлое непріятіе, религіозно осмысленное, а въ какой-то мѣрѣ и религіозно оправданное, этого новаго міра, а вмѣстѣ съ тѣмъ и той Россіи, которая его пріяла. При всѣхъ условіяхъ не могло не возникать настороженно-опасливаго отношенія къ дѣлу Петрову. Къ счастью, эта установка сознанія опрокидывалась не только религіозно не до конца убѣдительными соображеніями государственной необходимости, но и тѣмъ для всѣхъ яснымъ фактомъ, что нерушимой оставалась преемственность царской власти и что свершившееся принималось Церковью: и въ Петровской Россіи остаешься вѣрноподданнымъ Царя истиннаго и вѣрнымъ сыномъ Церкви истинной. Замѣну Патріаршества Сѵнодальнымъ режимомъ можно критиковать, но каноническая сила реформы была утверждена восточными патріархами, признавшими Сѵнодъ своимъ коллективнымъ собратомъ. Не отвергаема она была и русскими іерархами самой высокой духовной значимости.
Трагическая суть была не въ этомъ: сѵнодальная реформа была лишь какъ бы технически-организаціоннымъ оформленіемъ новаго режима, независимо отъ этого возникшаго и новое взаимоотношеніе установившаго между Церковью, съ одной стороны, и государствомъ и обществомъ, съ другой. Симфоническая двуглавость предполагаетъ рядомъ съ Царемъ Патріарха. Поскольку же Церковь отодвигалась отъ ближайшаго воздѣйствія на всѣ стороны жизни, удобства обѣщала коллегіальная форма возглавленія Церкви, съ тѣмъ, чтобы «службу связи» между государствомъ и Церковью осуществлялъ оберъ-прокуроръ. Не сталъ, конечно, Царь главой Церкви, но вовнѣ дѣлался онъ отнынѣ единоличнымъ представителемъ Православія, которое, повторяемъ, продолжало, и въ имперскомъ оформленіи Россіи, оставаться ввѣреннымъ ея нарочитому попеченію — промыслительному.
Было время — уничтоженіемъ Руси (Святой Руси!) грозилъ татарскій Востокъ. Какъ спасъ свое духовное бытіе, а потомъ возстановилъ и свою національно-государственную независимость Русскій народъ? Онъ принесъ въ жертву начало гражданской свободы, съ головой уходя въ дававшій Россіи потребную крѣпость сопротивленія «крѣпостной уставъ». Въ этомъ, всецѣло связанномъ, быту обрѣталъ онъ свободу духа, ибо всецѣлая вѣрность православію, всецѣлая пронизанность православной церковностью, были обезпечены народному быту всѣмъ строемъ Московскаго Царства.
Наступило иное время. Существованію Россіи сталъ грозить обмірщенный Западъ, и оказать ему сопротивленіе можно было только отказавшись отъ привычнаго уклада патріархально-крѣпостного. Къ свободѣ надо было идти, ея бремя налагать на себя, со всѣми съ ней связанными соблазнами и искушеніями. Справилась Россія съ угрозой татарщины, героически осуществивъ отказъ отъ личной свободы; устроеніемъ своего быта на монастырскій ладъ сумѣла она воплотить въ своемъ, всецѣло связанномъ, быту свободу духовную — высшее достиженіе, роднящее человѣка земного съ Небомъ. Сумѣетъ ли Россія сохранить это высшее благо, освоивъ культуру свободы, какъ цѣну своего дальнѣйшаго бытія?
+ + +
Принимая при Петрѣ «свободу» изъ-подъ палки, Россія обрѣтала ее практически только въ одной формѣ — свободы отъ Церкви. Личной свободы гражданской она еще не получала, а только втягиваема была во всѣ оттѣнки человѣческой мотиваціи, способные повысить «годность» человѣческаго матеріала въ дѣлѣ самообороны и гражданскаго устроенія. Повышеніе напряженности труда, ускореніе темпа жизни, измѣненіе самаго ритма народной повадки — вотъ чего добивался Петръ. Наново ремонтировалъ онъ исконный крѣпостной уставъ и въ его жесткихъ рамкахъ вздыбилъ Россію возжами цѣлаго комплекса новыхъ мотивовъ, въ душу вводимыхъ. Прибавка то была къ уже бывшему, но мѣняла она самую сущность этого «бывшаго» — и оно, рано или поздно, не могло не стать предметомъ переоцѣнки въ свѣтѣ цѣнностей, обрѣтаемыхъ съ Запада. Этотъ процессъ, поначалу едва замѣтный, ускорялся съ ходомъ роста Имперіи, катастрофической быстроты достигнувъ въ послѣднія десятилѣтія имперскаго двухсотлѣтія. Шелъ, правда, и встрѣчный процессъ — сопротивленія крѣпостного быта въ его духовной значимости. Но неизмѣнно, съ силой рока, совершалась «эмансипація» Россіи, осуществляемая сверху, — культурно обновляя Россію, но одновременно и духовно разрушая ее.
Своеобразенъ этотъ процессъ. Первоначально самое слово «вольность» не имѣло своего прямого смысла. «Вольность» дворянства, объявленная Петромъ III, никакъ не освобождала дворянъ отъ обязательной службы, а только продолжала линію Петра, вводя новую мотивацію въ несеніе этой службы. Отнынѣ «за честь» обязанъ былъ служить дворянинъ, причемъ могъ эту службу частично осуществлять и въ своемъ помѣстій. Но то была все та же «служба», патріархально-властно надъ крестьянами несомая, та же властная опека, та же полнота разнообразныхъ обязанностей, несомыхъ надъ управляемой «населенной землей». Переродиться надо было помѣщику, чтобы смогъ онъ на этой территоріи ощутить себя «хозяиномъ» въ смыслѣ иномъ — т. е. личнымъ собственникомъ и въ отношеніи крестьянъ и въ отношеніи земли. Корень бѣдъ лежалъ не въ фактѣ привычнаго осуществленія властной опеки помѣщиками, пусть и «вольными», надъ крестьянами, а въ фактѣ проникновенія, все большаго, въ сознаніе помѣщика «западнической» мысли о частной собственности на землю и людей. Вотъ гдѣ возникала брешь, превращавшаяся въ пропасть.
Съ каждымъ новымъ царствованіемъ укрѣплялся въ дворянствѣ, да и вообще въ русскомъ обществѣ, «новый» человѣкъ, все видѣвшій по-новому на своей родинѣ и тянувшійся уже къ европейской жизни, съ желаніемъ и въ ней быть участникомъ. Возникаютъ связи съ европейскими организаціями, часто далекими отъ христіанства — не то, что отъ православія. Такому «новому» человѣку становится уже чуждымъ то «Цѣлое», въ своей патріархальной простотѣ, чѣмъ было до сей поры все вокругъ него, образуя концентрическіе «міры», отъ семьи до Царства, въ составѣ какового «Цѣлаго» свое мѣсто занималъ и тотъ маленькій патріархальный «мірокъ», какимъ была помѣщикомъ владѣемая «населенная земля».
Такой помѣщикъ легко, поскольку въ немъ горѣли устремленія идеалистическія, утверждался въ отрицательномъ отношеніи къ своему положенію. Выходъ? Легкимъ онъ казался. Земля — его, какъ и крестьяне. Почему бы ему не «освободить» ихъ, оказавъ имъ льготы въ дѣлѣ пріобрѣтенія отъ него земли или давая имъ возможность пользоваться ею въ качествѣ арендаторовъ? Такъ кончилась бы унизительное для обѣихъ сторонъ положеніе — а льготы, и ужъ, конечно, самое освобожденіе, заставятъ освобожденныхъ вѣкъ молиться за благодѣтеля. Съ восторгомъ приступалъ порою подобный помѣщикъ къ осуществленію своего проекта. Встрѣчалъ онъ не восторгъ, а смущеніе передъ барской блажью, передъ барской дурью. Обычна формула отвѣта: «Нѣтъ ужъ — будь по старому; мы ваши, а земля наша». А была формула еще лучше: «Мы ваши, а вы наши». Послѣдняя прекрасно выражаетъ идеальную сущность взаимоотношеній помѣщиковъ и ихъ крестьянъ. Конечно, она не совпадала съ реальностью, но отражала ея природу — подлинную, не надуманную. Ибо не только грѣхомъ, но и невѣжествомъ надо признать желаніе исчерпать эту природу явленіями безумной салтычихи и ей подобныхъ.
Надо хотя бы немного вчитаться въ мемуарную литературу, чтобы убѣдиться въ томъ, какая красота таилась въ патріархальномъ быту помѣщичьемъ. Но и безъ такихъ поисковъ, каждый способенъ непосредственно ощутить эту красоту, обратившись мыслью къ образу няни, въ каждой семьѣ имѣвшейся неотмѣнно. Почитаемая воспитательница иногда нѣсколькихъ поколѣній — кѣмъ была она формально? «Рабой»! А сколько достоинства было въ ней — и въ обращеніи съ нею! Но не только въ женщинахъ являла себя духовная красота этого быта — вспомнимъ хотя бы Савельича пушкинскаго. Можно даже не безъ нѣкотораго основанія такъ ставить вопросъ: достойны ли были этой патріархальной красоты и высоты духа иные, ставшіе «новыми» людьми, «баре»? Это недостоинство обнаруживалось и въ вышеупомянутомъ идеалистическомъ устремленіи, но оно, конечно, чаще себя являло въ формахъ самаго беззастѣнчиваго произвола, отталкивающаго своей прихотливостью, причудливостью. Вотъ гдѣ обнаружилась во всей наготѣ бездуховность вновь обрѣтенной культуры! Литература изящная даетъ намъ множество тому примѣровъ. Но надо помнить, что это — продукты вырожденія святой патріархальности, а не ея плоды.
Справедливость заставляетъ, однако, признать, что даже эпоха духовнаго разложенія крѣпостного устава знаетъ много положительныхъ достиженій. Два теченія тутъ надо, переплетающихся, различать. Съ одной стороны, западная культура проникала черезъ помѣщиковъ въ самыя нѣдра Россіи съ силой и быстротой, непредставимыми въ иныхъ условіяхъ. Каждая усадьба, въ той или иной мѣрѣ, становилась опытнымъ полемъ и теплицею, гдѣ выращивались самые разнообразные цвѣты и плоды западной культуры: еще не написана исторія эпохи подъ этимъ угломъ зрѣнія.
Съ другой стороны, несомнѣнно сохранялся въ какой-то не малой мѣрѣ, вплоть до освобожденіи крестьянъ, и исконный бытовой укладъ, отвѣчавшій вышеприведенной формулѣ идеальной. При всѣхъ условіяхъ надо помнить, что именно крѣпостное крестьянство было основой хозяйственной мощи Россіи. Это надо сказать не только о крестьянствѣ оброчномъ, которое образовывало иногда до 50 процентовъ населенія большихъ городскихъ центровъ, принимая, въ самыхъ разныхъ формахъ, дѣятельнѣйшее участіе въ хозяйственной жизни страны, но и о барщинномъ, которое кормило Россію.
Вообще, чего только не найдешь подъ покровомъ крѣпостной зависимости во всѣхъ областяхъ жизни! И опять таки не только грѣхомъ, но и невѣжествомъ было бы тѣ трагедіи, которыя во множествѣ возникали при встрѣчѣ уходящаго, но еще живого, крѣпостного уклада съ идущимъ ему на смѣну режимомъ свободы, считать принадлежностью только «крѣпостного права». Весь строй жизни продолжалъ быть крѣпостнымъ, преемственно сохраняясь отъ московскаго прошлаго, и подобныя драмы были характерной особенностью вѣка, разыгрываясь въ обстановкѣ и дворянской, и купеческой, какъ были онѣ явленіями обыденными и учобы, и военщины, и гражданской службы. Самыя причудливыя формы принимало сосуществованіе отживающаго и возникающаго порядка. Безпристрастное изслѣдованіе эпохи откроетъ еще много любопытнаго и неожиданнаго. Достаточно указать хотя бы на значительные успѣхи процесса преодолѣнія т. н. общиннаго землепользованія хозяйствомъ единоличнымъ подъ ферулой крѣпостного права. Покупали крестьяне — на имя помѣщика, конечно — землю въ собственность — и жили и успѣшно хозяйствовали самостоятельно, избавившись отъ стѣснительной опеки міра, и было то явленіемъ далеко не единичнымъ.
Надо отрѣшиться отъ обличительной страсти, направленной на одинъ только участокъ нашего прошлаго, получившій укорительный ярлыкъ «крѣпостного права» (разумѣется: дворянъ на крестьянъ), чтобы сумѣть увидѣть, въ его цѣломъ, всенародный многовѣковый «крѣпостной уставъ» въ его изживаніи имперскомъ, а тѣмъ самымъ уяснить самую сущность роста и развитія Россіи въ періодъ Имперіи. Этотъ процессъ, на всемъ своемъ протяженіи, никакъ не былъ опредѣляемъ требованіями низовъ, а шелъ неизмѣнно сверху, проводимый авторитетомъ, силой, властью, духовно-нравственнымъ могуществомъ Царскаго Престола.
Надо сказать это и о т. н. освобожденіи крестьянъ. Власть выпадала изъ рукъ помѣщиковъ, а никакъ не была вырываема изъ ихъ рукъ подвластными. Краснорѣчивъ фактъ, что въ семьѣ Аксаковыхъ надо было искать охотника практически стать «помѣщикомъ», а въ семьѣ Кирѣевскихъ такого и не нашлось. А вѣдь это была т. ск. крайняя правая «новой» Россіи! На черную же доску попадали, получая въ обществѣ клеймо «крѣпостниковъ», достойнѣйшіе люди и образцовые хозяева, которые сохраняли способность вести свои патріархальныя громадныя хозяйства, вызывая любовь къ себѣ крестьянъ — что не мѣшало и имъ быть людьми иногда высокой культуры. Созрѣвшимъ было освобожденіе крестьянъ для тѣхъ, кто освобождали, а не для тѣхъ, кого освобождали.
+ + +
Окинемъ бѣглымъ взоромъ процессъ имперскаго гражданскаго обновленія Россіи — величественный въ своей настойчивости и послѣдовательности, независимо отъ личности тѣхъ, кто оказывался на тронѣ, и пронизанный такой желѣзной логикой саморазвитія, что случайные акты, почти анекдотическіе въ исторіи своего происхожденія, получаютъ значеніе историческихъ поворотныхъ пунктовъ: достаточно указать на знаменитую грамоту о вольности дворянства…
Можно раздѣлить подъ этимъ угломъ зрѣнія два вѣка Имперіи на нѣсколько періодовъ. Первый — послѣпетровскій. Россія приходитъ въ себя послѣ случившейся съ ней — бѣды. Иначе не назовешь то, какъ, по общему почти правилу, переживалъ народъ длительное время огромнаго напряженія силъ, когда его подхлестывали всѣми мѣрами принужденія для одолѣнія огромныхъ задачъ, не терпящихъ отлагательства, но сознаніемъ народа до конца большей частью не усваиваемыхъ. Незначительное меньшинство способно было свѣтло воспринимать какъ «свое» то «чужое», что въ итогѣ петровскихъ мѣропріятій растекалось по лицу земли Русской. Была ли то иностранщина, или русская «элита», въ конечномъ счетѣ пронесшая на своихъ плечахъ къ трону дочь Петра — не такъ ужъ существенно. Иностранцы проникались нерѣдко русскостью не въ меньшей мѣрѣ, чѣмъ русскіе иностранщиной.
Характерна для всей этой мѣшанины, съ одной стороны, растрепанность, «примѣрочность», импровизаціонный способъ реформаторства въ области новой гражданственности. Характеренъ, съ другой стороны, неугасающій пафосъ строительства, въ которомъ геній Петра продолжаетъ являть себя въ его «птенцахъ» и въ ихъ преемникахъ — будь то русскіе, или иностранцы обрусѣвшіе. Пристрастны порою отрицательныя оцѣнки, къ этимъ дѣятелямъ прилипшія, но одно можно сказать обо всѣхъ увѣренно: всѣ они живутъ будущимъ, воюя ожесточенно съ прошлымъ. Настоящаго, устоявшагося и способнаго притязать на бытовую прочность — нѣтъ. Не обрѣла еще своего стиля обновляющаяся Россія. Зрѣетъ еще только этотъ стиль при Елизаветѣ, которая, однако, въ значительной мѣрѣ сознательно остается позади вѣка, сохраняя общій языкъ съ церковнымъ народомъ и его вождями…
Мы говорили и примѣнительно къ этой даже эпохѣ о «пафосѣ строительства», унаслѣдованномъ отъ Петра. Какой же это пафосъ?
Послѣ подавленія первой русской революціи, когда возникло лихорадочное гражданское строительство, П.Б. Струве внутреннюю природу двухъ теченій, исчерпывающихъ, въ планѣ и исторіи и современности, это строительство, обозначилъ лозунгами «Святой Руси» и «Великой Россіи». Какъ мы знаемъ, такого раздвоенія не было на Москвѣ. Эпоха Петра I создала впервые атмосферу, въ которой можно было обособить «святость» Россіи отъ «величія» Россіи. Но было бы ошибкой думать, что это обособленіе стало характернымъ для самого Петра: въ отличіе отъ того, что о немъ часто говорятъ, Петръ въ этомъ, смыслѣ былъ еще человѣкомъ стараго закала. Онъ пронизанъ былъ идеей Великой Россіи, онъ охваченъ былъ духомъ Европы, онъ готовъ былъ обнаруживать въ своемъ поведеніи оскорбительное для церковнаго сознанія неуваженіе къ святынѣ. И все-таки цѣльности сознанія православнаго онъ не утратилъ. За всѣми западническими увлеченіями и срывами неизмѣнно мы обнаруживаемъ цѣлостно-вѣрующаго русско-православнаго человѣка — какимъ его и увидѣлъ Пушкинъ.
Святая Русь для Петра не область «эмоцій», наслѣдственно сохранившихся и дающихъ почву для жалкаго душевнаго состоянія позднѣйшаго русскаго человѣка, проникнутаго типическимъ «двоевѣріемъ». Нѣтъ, Вѣра была въ Петрѣ существомъ его внутренняго человѣка, что и обнаружилось при его кончинѣ, какъ обнаруживалось достаточно часто и ярко при его жизни. Если что доказалъ своей личностью Петръ, такъ это не то, что русскій человѣкъ, въ погонѣ за Великой Россіей, готовъ забыть Святую Русь, а наоборотъ то, что можно, всей душой устремляясь на путь устроенія Великой Россіи — оставаться вѣрнымъ Святой Руси.
Этого нельзя сказать о ближайшихъ его преемникахъ, за исключеніемъ, быть можетъ, одной Елизаветы. Поскольку же вѣра продолжаетъ жить въ сердцахъ дѣятелей эпохи, не проникаетъ еще въ сознаніе мысль о конфликтѣ между этими двумя понятіями-лозунгами, изъ которыхъ, конечно, безспорно-господственное положеніе занимаетъ Великая Россія.
Начатый незадачливымъ Петромъ III екатерининскій вѣкъ — едва ли не самое тусклое время Императорскаго періода, въ духовномъ смыслѣ. Самонадѣянная безпечность характеризуетъ умоначертаніе этого блестящаго вѣка, свысока взиравшаго на бытовыя основы русскаго общества, заслуживавшія, въ его представленіи, преимущественно сатирическаго изображенія. Впервые величіе Россіи всецѣло завладѣвало сознаніемъ «ведущихъ» — еще, однако, не создавая прямого конфликта съ идеей Святой Руси. Это не потому, что не было объективнаго внутренняго противорѣчія между тихой и свѣтлой заданностью Святой Руси и фанфарами выспренняго екатерининскаго великодержавія, а потому лишь, что до сознанія еще не дошло это противорѣчіе. Шло Отступленіе, но отчета въ немъ люди себѣ не давали, даже и не подозрѣвая глубины его. Въ отличіе отъ петровскаго вѣка какъ бы умолкъ голосъ совѣсти, свидѣтельствующій о духовномъ расколѣ, внесенномъ въ русское сердце. Это не значитъ, что сожжена была эта совѣсть. Это значитъ лишь то, что бурность свершеній великодержавныхъ и множественность отсюда возникающихъ буквально оглушающихъ впечатлѣній не давали не только вслушаться, но даже просто услышать голосъ совѣсти. Еще достаточно крѣпко вѣровалъ этотъ вѣкъ. Но такъ возвышенно-бурно, такъ приподнято-восторженно раскрывалась Россія въ своемъ «величіи», что повода и времени не было серьезно подумать о душѣ — трезвенно и покаянно ощутить себя заблудшимъ дѣтищемъ Святой Руси…
Новая эра открывается Павломъ I. Его короткое царствованіе — увертюра, въ которой звучатъ мотивы основные открываемаго имъ вѣка, исполненнаго величайшихъ достиженій русской культуры. Какъ въ немъ устанавливается соотношеніе началъ Великой Россіи и Святой Руси?
Различать надо тутъ «бытіе» и «сознаніе». Первое раскрывается всецѣло подъ знакомъ Великой Россіи. При Петрѣ она — пользуемся терминами лѣтописца — только «пошла»; «княжили» въ ней преемники Петра; даже и при Екатеринѣ она, однако, еще не «стала есть». Взбаламученная русская стихія еще и при ней не устоялась. Если новый бытъ и принималъ стойкія очертанія, то исполнены онѣ были соблазнительной двойственности. Мы видѣли, какъ въ помѣщичьемъ быту не только полезному училъ, но и творилъ бѣду «новый» человѣкъ, облеченный во власть патріархально-неограниченную. Эта двусмысленная чрезполосица пронизывала и государственный, и воинскій, и общественный бытъ. Никогда такъ тѣсно не переплетались понятія нравственно-отвѣтственной и духовно-оправданной патріархальной власти и нравственно-безотвѣтственнаго и ничѣмъ не оправданнаго произвола, готоваго выродиться въ самое отвратительное самодурство. Еще искала Великая Россія истинныхъ формъ своего обновляемаго бытія. Наметкой ихъ и явилась эпоха Павла, являясь одновременно и оглядкой назадъ, въ смыслѣ подведенія итоговъ, уже вѣковыхъ, достигнутыхъ на пути Великой Россіи, и мощнымъ броскомъ впередъ, въ смыслѣ постановки задачъ и опредѣленія путей будущаго.
Павелъ былъ не Петръ III, подписью подсунутаго ему историческаго акта вошедшій въ исторію. Это былъ могучій и независимый умъ, способный обозрѣвать прошлое и провидѣть будущее. Какъ иначе истолковать изумительную плодотворность короткихъ годовъ его царствованія, оформившаго Великую Россію! При немъ Россія Императорская получила впервые «основные законы». Это и формально такъ, поскольку онъ далъ Россіи законъ о престолонаслѣдіи.
Но еще важнѣе то, что при Павлѣ Россія впервые узнала, что есть и долженъ быть во всемъ порядокъ законный, ограждающій каждаго, и что произволъ кого бы то ни было обрѣтаетъ границу не въ произволѣ высшемъ, отъ котораго защиту можно искать только въ милосердіи парящей надъ хаосомъ произвола Царской власти, практически почти или даже вовсе недоступной, а обрѣтаетъ надъ собою, исходящую съ высоты престола, организованную силу порядка, нарочито призванную обуздывать произволъ. Это было нѣчто совершенно новое, встрѣченное одновременно и съ недоумѣніемъ, граничащимъ съ испугомъ, и съ радостью, граничащей съ восторгомъ.
Не надо создавать легендъ о «народномъ» царѣ, который якобы выступилъ противъ дворянства и знати и тѣмъ пріобрѣлъ популярность: это значило бы народнической фальшивкой подмѣнять національную правду. Лицомъ правдолюба — независимо отъ срывовъ его больного характера — обращенъ былъ Павелъ одинаково и къ крестьянству и къ дворянству и къ духовенству. Въ его лицѣ правопорядокъ выступалъ противъ произвола, разгулявшагося, было, на дѣвственной почвѣ патріархальной Россіи въ итогѣ внѣдренія въ нее началъ европейской государственности. Павелъ сумѣлъ положить фундаментъ «правового порядка», на который опиралась вся позднѣйшая работа его преемниковъ.
Но въ одномъ отношеніи Павелъ оставался чуждъ будущему, имъ же строимому. Опредѣляя своими актами «бытіе» Великой Россіи, своимъ «сознаніемъ» не принадлежалъ онъ ей, являясь скорѣе сыномъ Святой Руси — къ ней тяготѣя духомъ. И поразительно то, что въ этомъ своемъ свойствѣ онъ оказывался пронизанъ и общественными идеями старины. Все для него опредѣлялось началами службы и тягла. Пусть онъ не только правду и справедливость цѣнилъ, но и формальное «право» готовъ былъ уважать, въ этомъ отношеніи являясь человѣкомъ «новымъ»: для него каждый, будь то простой человѣкъ или первый вельможа, являлся носителемъ, прежде всего, обязанностей: «вольность» ему претила. Доведи до конца Павелъ свой идеалъ Великой Россіи, то былъ бы опять наново, на имперско-европейскій ладъ, отремонтированный «крѣпостной уставъ» — новое изданіе дѣла Петрова. Павелъ палъ жертвой этой идеи, непріемлемой для русскаго передового общества, уже дышавшаго идеями не столько «права», какъ именно свободы — «вольности».
Надо ли говорить, что въ составѣ этого общества былъ и царственный ученикъ Лагарпа…
Въ исторіи царствованія Александра I надо различать «идеи» и «учрежденія». Обычно первыя заслоняютъ вторыя — не по заслугамъ. И тутъ, опять-таки, большимъ преувеличеніемъ было бы дѣлить царствованіе Александрово на двѣ половины — одну «либеральную», а другую «реакціонную», какъ то принято дѣлать. Спору нѣтъ, идейная демобилизація произошла на протяженіи его царствованія наглядная. Но если кто занимался исторіей учрежденій, тотъ не могъ съ немалымъ удивленіемъ не установить, что все царствованіе Александра I, независимо отъ открывшихъ его демонстративно-либеральныхъ перемѣнъ на верхахъ государственнаго управленія, проникнуто заданіемъ, систематически выполнявшимся, упорядоченія крѣпостного облика Россіи.
Въ частности, военныя поселенія лишь въ этомъ планѣ уяснимы, никакъ не являясь самодурной блажью Аракчеева. И неудача ихъ не есть лишь неудача этого оригинальнаго замысла. Неудачной, въ конечномъ счетѣ, оказывалась вся затѣя Павловская — организаціонно-правовое оформленіе дать крѣпостному уставу. Иначе бы его законъ трехдневной барщины легко и естественно сталъ основой переплавки всего нашего крѣпостного помѣщичьяго быта, открывавшей въ дальнѣйшемъ легкую же и естественную возможность упраздненія помѣщичьей власти. Объясненіемъ этого безсилія самодержавія передъ крестьянскимъ вопросомъ, остававшимся неразрѣшимымъ и при Николаѣ I, можетъ служить только одно: глубочайшая укорененность въ русскомъ быту начала патріархальности, не терпящей юридической формализаціи.
Такимъ образомъ, патріархальная (пусть и посильно упорядочиваемая) старина оставалась господствующей и при Александрѣ I, опредѣляя природу «учрежденій». Между тѣмъ «идеи» бурлили — вылившись, какъ извѣстно, въ бурную вспышку, едва не сдѣлавшую царскую резиденцію жертвой мятежа. Съ нимъ справился мужественно новый Царь, еще ранѣе справившійся съ идеями, мятежъ породившими: не имѣли онѣ надъ нимъ силы. Если Александръ не способенъ былъ, переродившись духовно, это внутреннее измѣненіе своего «я» явить во внѣ въ образѣ властвующаго Императора, а вынужденъ былъ уйти въ затворъ, то, напротивъ того, легко и свободно явилъ собой образъ Православнаго Царя Николай I, сумѣвшій сочетать императорское, новаго стиля, великолѣпіе съ простотой исконно-русской, дѣлавшей его роднымъ и блзкимъ каждому почвенно-русскому человѣку.
Если всѣ предшествующія царствованія еще только ставили вопросъ о согласованіи «Имперіи» съ «Царствомъ», то въ образѣ Николая I эта проблема получала наглядное и безспорное разрѣшеніе. Императоръ, поражавшій воображеніе европейцевъ своимъ величіемъ, облеченнымъ въ европейскія формы, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ стародавнимъ Хозяиномъ громадной страны, патріархально близкимъ каждому ея насельнику. Едва ли даже древняя Москва являла примѣръ — не исключаемъ и Тишайшаго! — такого живого общенія Царя и народа: каждый русскій человѣкъ ощущалъ Царя «своимъ», а себя всѣ ощущали «царскими». Покоряюще дѣйствовалъ, непроизвольно, Царь даже на «передовыхъ» людей, въ которыхъ не умерла окончательно русскость. Когда онъ умеръ, Россія оцѣпенѣла.
И именно то, что эта власть была «патріархальной», обуславливало то, что «гнетъ», какъ воспринимали николаевскій режимъ «передовые» люди, не мѣшалъ блистательному расцвѣту культуры буквально во всѣхъ областяхъ жизни — не исключая тѣхъ, воздухомъ которыхъ является свобода. Этимъ объясняется и то, что въ отличіе отъ царствованія брата «идеи», реакціонныя съ точки зрѣнія александровскаго либерализма, не мѣшали николаевскимъ «учрежденіямъ» развиваться по линіи раскрѣпощенія — что опять-таки мало замѣченнымъ остается въ силу примата «идей» въ сознаніи наблюдателей надъ «учрежденіями».
Чтобы оцѣнить особую качественность николаевскаго царствованія какъ «правового» и даже «либеральнаго» (не въ затасканно-публицистическомъ, конечно, смыслѣ этого слова, а строго-научномъ), надо только подумать о Сперанскомъ какъ организаторѣ грандіознаго дѣла по созданію Общаго Собранія Законовъ и Свода Законовъ. Именно при Николаѣ I становилась Россія «правовымъ государствомъ» — и это не только въ строго-формальномъ смыслѣ томъ, что объединеннымъ и гласнымъ, для всѣхъ обозримымъ, а потому и практически общеобязателынымъ становилось дѣйствующее объективное право.
«Правовымъ государствомъ» становилась Россія и въ смыслѣ болѣе узкомъ, означающемъ особую природу государственности — именно ту, которая вырасла изъ Римскаго Права и которая своей основной чертой имѣетъ наличіе хозяйственной автономіи, ограждаемой публичнымъ порядкомъ, а, слѣдовательно, и обособленіе права публичнаго и частнаго (чего въ Россіи ранѣе не было по общему правилу). Дѣло въ томъ, что Римское право стало содержаніемъ, пусть и контрабанднымъ, первой части X тома — нашего гражданскаго кодекса. Пусть это не было еще общимъ правомъ, но все же общегосударственное заданіе опредѣлялось достаточно ясно: вопросъ шелъ только о распространеніи этого, уже дѣйствующаго, права на всѣхъ. Режимъ частной собственности входилъ въ законный обиходъ Россіи какъ порядокъ жизни, который ждетъ всю раскрѣпощаемую Россію.
Рубежа не переступилъ Николай I, имъ такъ отчетливо поставленнаго. Трезвое чувство дѣйствительности мѣшало ему. Удѣлъ свершителя «Великихъ реформъ» на его сына выпалъ — по завѣту отца.
Александръ II былъ какъ бы созданъ для этой задачи. Мягкая доброжелательность, граничащая порой съ тепло-хладнымъ безразличіемъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, опирающаяся на стойкое умоначертаніе трезво-русской царственности, позволяла ему идти по теченію, въ сущности неизвѣстно, куда ведущему, но тутъ же ставить ему предѣлы, царственною рукой осуществляя принятое къ исполненію. Воспитаніе, полученное отъ Жуковскаго, не малое тутъ имѣло значеніе. Надъ вѣкомъ возвышался Жуковскій. Западникъ стопроцентный, онъ позналъ цѣну Запада. Онъ уразумѣлъ его духовную немощь. Онъ уразумѣлъ и духовную мощь Россіи Исторической. Отрезвляющую его школу прошелъ Александръ II, поскольку онъ становился причастнымъ къ міру «идей». Это помогло ему оказаться державнымъ осуществителемъ назрѣвшихъ общественныхъ реформъ. Пусть онѣ подрывали основы государственности устоявшейся. Державная рука тутъ же дѣйствовала, какъ умѣряющая сила, государственно-разумный обликъ дающая тому, что было на грани безотвѣтственнаго доктринерства.
Но при всемъ томъ, картина становилась угрожающей: двѣ стихіи обозначались, во всей своей непримиримости, стоящія одна противъ другой. Живое еще прошлое патріархальное отвергалось государственной новизной, въ которой, вопреки тому, что, по подсказкѣ Каткова, говорили Царю старообрядцы, никакъ не слышалась святая старина. Контрастъ двухъ стихій легко иллюстрировать на примѣрѣ взаимоотношеній помѣщиковъ и крестьянъ примѣнительно къ землѣ. Крестьяне и себя и своихъ помѣщиковъ продолжали разсматривать подъ угломъ зрѣнія службы Царю. Разъ помѣщиковъ отстраняли отъ земельной службы — имъ оставалось только уйти отъ земли, предоставивъ служить на ней крестьянамъ. А какъ помѣщики будутъ вознаграждены за ихъ иную службу — то дѣло царское. Помѣщики же смотрѣли и на крестьянъ и на землю, какъ на свою частную собственность. Разъ крестьянъ освобождаютъ — имъ остается только уйти съ земли, которая остается за собственниками ея. Примиренія между этими двумя точками зрѣнія нѣтъ. Выходъ нашли въ томъ, что государство откупило землю отъ помѣщиковъ и само уже покрывало расходы по этой грандіозной операціи, мѣрами государственной власти взимая выкупные платежи съ крестьянъ.
Умѣстно тутъ опять вспомнить законъ Павла о трехдневной барщинѣ: какъ было бы все просто, если бы земля была размежевана, повинности точно установлены… При посредничествѣ государства ничего не было бы легче па этой основѣ полюбовно разойтись крестьянамъ и помѣщикамъ.
Теперь же духъ произвола виталъ надъ Реформой. Надѣлъ! Самый принципъ «надѣленія» вводилъ начало властнаго произвола туда, гдѣ здоровымъ началомъ является только самопроизвольная жизненная индивидуальность, никакими «правилами», «нормами», не опредѣляемая. Не возникалъ ли соблазнъ эту идею «надѣленія» свыше сдѣлать чѣмъ-то длящимся, постояннымъ — конечную границу получающимъ только въ фактѣ исчерпывающаго распредѣленія всей земли, когда уже нечего больше будетъ «надѣлять»? Идея «чернаго передѣла» родила Революцію — но развѣ не подсказана она Реформой?
Пусть иного способа не было, чтобы Реформу осуществить, но, съ проведеніемъ ея, не возникала ли срочнѣйшая задача переключить міроощущеніе крестьянъ на иной ладъ? Этого не произошло: не сталъ новый порядокъ крестьянскаго быта на очередь. Напротивъ того, освобожденное крестьянство было закрѣпляемо въ своей изолированности и въ своей связанности — худшей, чѣмъ то было при помѣщикахъ. Раньше опека властная предполагала систематическую и постоянную помощь сверху. Теперь крестьянство было предоставлено себѣ. Внутри-крестьянская солидарность оставалась въ силѣ, какъ и крѣпость землѣ, но земля эта была неподвижнымъ кускомъ — и не было надежды на улучшеніе быта, на переселеніе, на переводъ на оброкъ, на дополнительный надѣлъ. Состоялась абсолютизація худшей формы крестьянскаго быта, когда не «по силамъ» крестьянинъ получаетъ трудовое заданіе, а «по ртамъ» дѣлится ограниченный кусокъ земли, на которомъ стѣсненъ маленькій крестьянскій «міръ». Новая крѣпостная зависимость такъ возникаетъ, и изъ нея выводится крестьянство только такъ называемой «столыпинской реформой», которая по праву можетъ быть названа дѣйствительнымъ «освобожденіемъ крестьянъ», съ обращеніемъ ихъ въ частныхъ собственниковъ…
Надо ли удивляться, что при такихъ условіяхъ крестьянство, въ сущности, не приняло Великой Реформы. Оно подчинилось ей вѣрноподданнически, отвѣтивъ, однако, на свое «освобожденіе» и бунтами, эпизодическія вспышки которыхъ не превратились въ общенародное бѣдствіе только благодаря мудрости Царя, умѣло обставившаго объявленіе «свободы». Но крестьянство замкнулось въ мечтѣ о дальнѣйшемъ — въ направленіи, лишь начатомъ. Оно стало ждать «земли и воли» въ полноту предѣльную, и это вожделѣніе принимало, въ условіяхъ законсервированности крестьянъ въ своемъ соку, все болѣе горячечный характеръ. Ожиданіе флигель-адъютантовъ съ объявленіемъ отъ Царя настоящей свободы, а не той, подмѣненной, которую они принесли въ 1861 году, принимало образъ бредовой одержимости. Ее легко было обратить и противъ Царя на путяхъ умѣлой и настойчивой пропаганды. И настало, наконецъ, время, когда вытѣсненъ былъ въ воображеніи крестьянъ образъ посланца Царя образомъ «студента» — вѣстника уже не Царя, а Революціи, съ обѣтованными ею «землею и волею».
Первая Революція образумила верхи. Началась лихорадочная и успѣшная работа по спасенію Россіи отъ черно-передѣльческой пугачевщины. Съ именемъ Столыпина связано громадное движеніе, наново организующее Россію. Осуществлялся грандіозный планъ устроенія Россіи на началахъ частной собственности. И уже, казалось, реальностью становилось это спасительное обновленіе Россіи, какъ грянули Война, остановившая реформу, а затѣмъ Революція. Обнаружилось, въ революціонномъ угарѣ, какъ хрупко достигнутое: подъ армякомъ хуторянина («столыпинскаго дворянина») обнаруживался все тотъ же жадный до «землицы» мужичокъ, готовый принять дѣятельное участіе въ передѣлѣ грабительскомъ сохранившихся «дворянскихъ гнѣздъ». Въ заревѣ страшнаго пожарища обернулась Великая Реформа безобразнымъ передѣльческимъ безчинствомъ, открывшимъ возможность обращенія Россіи въ СССР. И не стало ни Святой Руси, ни Великой Россіи…
Значитъ ли это, что объективно-порочно было содержаніе «Великихъ Реформъ» и что благодать «Святой Руси» покинула Великую Россію, какъ только стала она на этотъ пагубный, прельстительный путь? Никакъ. Много цѣннаго было въ Великихъ Реформахъ и поистинѣ великъ итогъ ихъ достиженій, развернувшійся въ теченіе полувѣка дальнѣйшаго бытія Россіи, въ самыхъ разныхъ направленіяхъ. Громаденъ былъ идеалистическій порывъ, вложенный въ эти Реформы, и не угасалъ онъ до катастрофическаго срыва.
Во многихъ отношеніяхъ «адаптація» западно-европейской гражданской культуры, Россіей явленная, была усовершенствованіемъ этой культуры, глубоко оригинальнымъ. Это можно сказать и обо всемъ ходѣ имперскаго россійскаго гражданскаго строительства, но особенно ярко это видно на послѣднихъ десятилѣтіяхъ его. Величественной и грозной была Россійская Имперія — этого не станетъ отрицать никто. Но мало кто отдаетъ себѣ должный отчетъ въ томъ, въ какой мѣрѣ этому внѣшнему великолѣпію соотвѣтствовало и внутреннее совершенство могущественнаго аппарата властвованія. Еще должнымъ образомъ не оцѣнены ни русскій судъ, ни русская бюрократія, ни русское самоуправленіе, ни русская административная юстиція, ни нашъ «приказный» языкъ, ни совершенство кодификаціи. Не оцѣнена по достоинству и общая «добротность» всего творимаго Россійской Имперіей, готоваго, казалось, стоять вѣками. Люди были крѣпки и на слово и на дѣло. Такъ было до Реформъ, такъ оставалось и въ «Пореформенной Россіи». Въ основѣ этой крѣпости слова и дѣла продолжала лежать крѣпость духа, вѣками утвержденная.
Далеки мы отъ того, чтобы печать охуленія ставить на тотъ крестьянскій бытъ, который, въ конечномъ итогѣ, оказался разсадникомъ, питомникомъ, очагомъ Революціи. «Законсервированность» крестьянскаго быта означала и охраненіе святости его — той исконной святости патріархальной, которая составляла основу Святой Руси. Только подъ этимъ угломъ зрѣнія можно уяснить оторопь, которую испытывали иные трезвые государственные дѣятели Россіи, осознавая размахъ разрушительный, а не только созидательный, столыпинскаго дѣла. Сможетъ ли хуторянинъ остаться столь же вѣрнымъ чадомъ Церкви, какимъ былъ членъ «міра», въ житейскомъ быту привычно объединеннаго вокругъ храма? Все та же проблема стоитъ: можетъ ли русскій человѣкъ, оказавшись въ условіяхъ свободы, не полинять въ своей исходной православной русскости?
Образованные классы еще въ какой то мѣрѣ держались духомъ старины — даже и укоренившись въ новизнѣ. Были круги общественные, которые разрушительность новизны принимали съ восторгомъ и съ готовностью до конца ее проводить — сметая съ лица земли все святое прошлое. Для большинства такъ вопросъ не ставился: оно думало строить наново, не порывая всецѣло съ прошлымъ, а его совершенствуя. Медлилъ еще тутъ процессъ расцерковленія. Для простого крестьянства упрощенно грубъ онъ былъ, являясь срывомъ въ бездну бунта, ничего святого уже передъ собою, въ своей оголтѣлости, не видящаго.
Дни и часы Исторической Россіи оказались сочтены, когда встрѣча дружественная произошла между двумя стихіями, только что стѣнка на стѣнку другъ на друга шедшими. Великая Россія, во всемъ великолѣпіи и внѣшнемъ и внутреннемъ, возмечтала высвободиться отъ оболочки великодержавія царственнаго, якобы мѣшающаго дальнѣйшему росту и развитію «свободы». Святая Русь, во всей еще сохранившейся жизненности крестьянскаго уклада, всецѣло церковнаго, захотѣла любой цѣной высвободиться отъ якобы висящихъ надъ ней путъ, мѣшающихъ ея благобыту. Революція сверху соединилась съ бунтомъ снизу — и это въ условіяхъ, когда для достиженія желаемаго и верхами и низами нужно было только одно: предохранить Россію и отъ Революціи и отъ бунта.
Все вѣдь было уже достигнуто! Казалось только реализуй его, оберегая и то, что обрѣтено новаго, и то, что осталось отъ стараго. Нѣтъ — долой и то и другое! То, что обрекло на небытіе Историческую Россію было одновременно и отрицаніемъ Святой Руси и разрушеніемъ Великой Россіи. По разному это слагалось въ сознаніи члена культурнаго общества и крестьянскаго міра, но итогъ былъ тотъ же: «долой!» Такъ и возникло пустое мѣсто, на которомъ и воцарились большевики.
+ + +
Мы въ самомъ началѣ говорили, что при оцѣнкѣ Императорской Россіи надо учитывать не только то, что сознательно и намѣренно дѣлалось ея вождями, но и самый фактъ, что подъ покровомъ Императорской Россіи продолжала, при всѣхъ условіяхъ, жить Святая Русь. Многое раскрываетъ намъ тутъ исторія — именно исторія. Современность уже не реагируетъ на явленія русской святости — не видитъ она ихъ! Пусть она не чуждается ихъ — она другимъ занята. Были развѣ чужды духу Святой Руси Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ? А коснулось ли ихъ слуха возникновеніе такого явленія святости, какъ преп. Серафимъ Саровскій?
Въ томъ вѣдь и природа Святой Руси, что ее не такъ просто увидѣть и разсмотрѣть. Это не значитъ, что она таится и прячется — этого не требовалось въ Императорской Россіи, по общему правилу Святую Русь нарочито охранявшей. Но была Святая Русь для Императорской Россіи тѣмъ, чѣмъ для каждаго христіанина является его «внутренній человѣкъ». Такъ ли легко его увидѣть и разсмотрѣть? И не надо для этого никому своего «внутренняго человѣка» особо таить и прятать. Надо, однако, особое чувствилище имѣть, чтобы его увидѣть — такова природа «внутренняго человѣка».
Трагедія Императорской Россіи и заключалась въ томъ, что утрачивала она способность, даже и оставаясь щитомъ Святой Руси — видѣть ея истинную природу. Это возникло въ самый моментъ возникновенія Имперіи. Не отсюда ли разрывъ традицій церковнаго искусства — буквально мгновенно возникшій съ началомъ Петербургскаго періода? Своей жизнью начинала жить Императорская Россія — своей продолжала жить Святая Русь. Новый культурный міръ создавала Императорская Россія — и обогащалась Россія многимъ, о чемъ и не помышляла Москва. Въ какой-то мѣрѣ и это новое было наслѣдіемъ, отраженіемъ, порожденіемъ прошлаго. Отблескъ Святой Руси — давалъ особую качественность всему новосозидаемому, на удивленіе всему міру, поскольку этотъ міръ начинаетъ знакомиться съ богатствомъ русскихъ культурныхъ достиженій. Но уже не живетъ въ нихъ подлинная, истинная Святая Русь. Живетъ она своей особой жизнью, отдѣльной — горя ровнымъ, мягкимъ, ласкающимъ свѣтомъ гдѣ-то въ глубинахъ, въ нѣдрахъ русской жизни, чтобы моментами лишь озарять всю Россію свѣтомъ ослѣпительно-яркимъ…
Многихъ монарховъ имѣла Россія — мало кто изъ нихъ не былъ убѣжденнымъ защитникомъ и охранителемъ Святой Руси. Но можно ли назвать ихъ представителями, чадами Святой Руси? Въ какой-то лишь мѣрѣ — да. Тутъ-то и обнаруживается особенно наглядно, какъ разобщаются пути Великой Россіи и Святой Руси.
Павелъ I! Жило въ немъ мистическое начало несомнѣнно — и не объясняются ли «странности» его, независимо отъ сложныхъ обстоятельствъ его воспитанія и перваго періода его жизни, еще и сложностью его духовнаго хозяйства, вызываемой контрастомъ и конфликтомъ Святой Руси и Великой Россіи? Поучителенъ дневникъ его воспитателя Порошина, человѣка высокихъ достоинствъ и дарованій, воплощавшаго среднюю линію, сочетавшую вѣрность Церкви съ увлеченіемъ Западной культурой — человѣка ломоносовскаго уклада. Мы видимъ изумительную для Павла-ребенка развитость его, позволявшую рѣзвую дѣтскость сочетать съ осмысленнымъ участіемъ во всѣхъ свѣтскихъ, государственныхъ и культурныхъ, явленіяхъ эпохи. Найдемъ ли мы въ этомъ замѣчательномъ дневникѣ хотя бы малое дуновеніе духа Святой Руси! Нѣтъ. Между тѣмъ, духъ этотъ не былъ чуждъ Павлу: посмертная его судьба тому порука. Святая Русь — та увидѣла, та разсмотрѣла въ Павлѣ родственность себѣ духовную: святымъ восчувствовала она умученнаго Императора.
Въ сынѣ Павла, напротивъ того, воплотились самыя передовыя устремленія Великой Россіи, несовмѣстимыя, несогласуемыя со Святой Русью. Но какъ краснорѣчива его судьба! Явила она, на тронѣ, возвращеніе въ отчій домъ со страны далече. Не могъ уже, однако, этотъ святой замыселъ быть осуществленнымъ до конца, во всей своей благодатной полнотѣ, иначе, какъ отказомъ отъ міра — покаянно-уничиженнымъ, такимъ, какой только Святой Руси доступенъ и близокъ. Странникомъ бездомнымъ сталъ повелитель Европы и въ отшельничествѣ безвѣстномъ кончалъ свои дни, вѣнцомъ покаянія вѣнчая свою царственную главу, имъ самимъ развѣнчанную.
Николай I! Въ его величавомъ образѣ на историческое мгновеніе слились Великая Россія и Святая Русь. Но было ли то органическое сращеніе? Нѣтъ! Нѣкая нейтрализація произошла того неотмірнаго, что составляетъ сущность Святой Руси — какъ то бываетъ и въ жизни отдѣльнаго человѣка, остающагося вѣрнымъ своей Церкви, но увлеченнаго достиженіями мірской жизни, самоцѣнными… Но такъ лишь остается, пока не возникаетъ моментъ, когда надо подумать о душѣ. Знаменателенъ исходъ изъ міра Царя Николая I. Вотъ когда Святая Русь отстранила Великую Россію — властно и окончательно. Освѣдомленный врачемъ-другомъ о близящейся кончинѣ, Царь отодвинулъ отъ себя все земное — вплоть до донесеній изъ Севастополя, передававшихся имъ нераскрытыми сыну-наслѣднику. Сердце отдавалось теперь уже нераздѣльно лучамъ иного свѣта — и ложится на кончину великаго Императора отсвѣтъ ровный, тихій, благостный Святой Руси неотмірной: русская, православная смерть вѣнчаетъ жизнь строителя Великой Россіи. Смерть то русскаго солдата — воина Христова — отслужившаго свой срокъ.
Царь-Освободитель! Привлекателенъ его обликъ — но всецѣло свѣтскій это обликъ. Печать Великой Россіи лежитъ на немъ, и какъ на Царѣ, и какъ на человѣкѣ. Культура его, — его домашній бытъ: гдѣ тутъ Святая Русь? Однако, только затуманенность духовнаго взора его современниковъ и потомковъ способна объяснить тотъ фактъ, что въ жизнеописаніе его не проникло свѣдѣніе знаменательное: мученическая кончина Императора совпала съ принятіемъ имъ святыхъ тайнъ, послѣ великопостной исповѣди. Много говоритъ это «совпаденіе» вѣрующему сердцу, пріобщая и Царя-Освободителя къ Святой Руси.
Фигура Александра III проста: въ ней не надо разгадывать конфликтовъ внутреннихъ. Тутъ уже конфликтъ иной: Царя съ обществомъ. Святая Русь въ его лицѣ получаетъ, если не воплощеніе, то признаніе — полное, всецѣлое, убѣжденное. Какъ много и тутъ скажетъ церковно-вѣрующему человѣку смерть Царя, съ рукой о. Іоанна Кронштадтскаго на челѣ!
А нашъ послѣдній Царь. Къ нему обращаемся мы съ смущеннымъ сердцемъ — какъ къ живому свидѣтелю и молчаливому обличителю нашихъ дѣлъ и дней…
+ + +
На Императорѣ Николаѣ II оборвалась историческая нить Россіи.
Найдутся ли силы, способныя подобрать эту нить и возстановить ходъ Исторіи?
Для этого нужно, чтобы понятъ былъ нашъ послѣдній Царь и чтобы понято было — почему онъ сталъ послѣднимъ.
Всмотримся въ его царствованіе. Чѣмъ отличается оно формально отъ всѣхъ остальныхъ? На каждомъ царствованіи предшествующемъ лежитъ печать Царя. Каждое обнимаетъ эпоху, краткую ли, долгую ли, но такую, которая можетъ по праву именоваться «вѣкомъ» своего Государя, — именно его! Печать ли личности этого Государя ложится такъ властно на его вѣкъ, или, напротивъ того, печать вѣка ложится на Государя, опредѣляя его обликъ — но два эти образа: Царя и Царства, сливаются неразличимо, какъ бы тѣмъ наглядно показывая намъ, въ какой мѣрѣ совмѣстно опредѣляла десница Господня судьбы Русскаго Царя и Русскаго Царства.
Можно ли это сказать, хотя бы въ малой мѣрѣ, о пашемъ послѣднемъ Царѣ?
Гдѣ Россія Николая II? Гдѣ его вѣкъ? Не сліяніе, а контрастъ и конфликтъ передъ нами.
Какое это страшное обличеніе Россіи — предъ лицомъ такого Царя! Вѣдь на тронѣ впервые, на всемъ протяженіи Императорской эпохи былъ Царь, воплощавшій Святую Русь — являвшій собою живое олицетвореніе того «внутренняго человѣка», который, по заданію промыслительному, долженъ былъ быть и оставаться неизмѣнно духовнымъ содержаніемъ Императорской Россіи. Вотъ кѣмъ былъ «Царь» въ «вѣкъ Николая II». А чѣмъ было «Царство»? Оно было расцвѣтшей во всей полнотѣ заложенныхъ возможностей Великой Россіей. Полнота великодержавія Россійскаго осуществлялась Россійскимъ Царствомъ. Высота духовнаго строя святорусскаго являема была личностью Царя. И такой Россіи оказался чуждъ такой Царь!
Какъ же было ему не стать послѣднимъ?
Каково же условіе, единственое, неотмѣнимое, при которомъ не «послѣднимъ» можетъ оказаться — въ будущемъ — Императоръ Николай II?
Такая Россія должна возникнуть, которая достойна своего послѣдняго Царя. Нельзя ушедшую въ историческое небытіе Россію механически реставрировать, какъ нельзя на ея мѣстѣ создать нѣкую новую Россію. Наше прошлое можно только продолжать, возстановивъ его отъ того мѣста, на которомъ оно прервалось.
Великая Россія и Святая Русь! Святая Русъ не что-то, могущее быть противупоставленнымъ Великой Россіи въ планѣ возстановленія Россіи. Если «внутренній человѣкъ» испыталъ смерть — то и внѣшній обреченъ на тлѣніе. Если же «внутренній человѣкъ» охваченъ страстями, одержимъ бѣсами, загнанъ въ подсознаніе — спасеніе возможно и, слѣдовательно, новая возможна жизнь. Возрожденіе Россіи не есть возстановленіе учрежденій и возвращеніе идей, какими жила Россія Николая II. Нельзя возстановить «русскій судъ», «русское земство», «русскую бюрократію» и т. д. Нельзя возстановить то многообразіе культурной жизни, которымъ искрилась ушедшая Россія. Все это ушло, разрушено, вымерло. Но если возвратится «внутренній человѣкъ» въ опоганенное тѣло — покаяніемъ омывъ грѣхъ своего падѣнія, не откроется ли тѣмъ возможность жизни обновленной Россіи? Не освятнтся ли вновь оскверненное тѣло святостью духа, въ него возвратившагося и его оживившаго?
Одно изъ двухъ. Или, дѣйствительно, понятія «Великая Россія» и «Святая Русь» суть антитезы. Тогда пришла Россія къ своему естественному концу, обнаруживъ то, что весь ходъ Императорской Россіи означалъ ликвидацію того великаго образованія, которое именуется Русскимъ Православнымъ Царствомъ. Кіевъ! Москва! Петербургъ! Вотъ три этапа роста, развитія, преуспѣянія этого великаго образованія. Четвертаго этапа нѣтъ — и кончилась Россія. Богатое наслѣдіе оставила она, но выморочно оно: наслѣдника нѣтъ. Церковное сознаніе изъ этого сдѣлаетъ одинъ выводъ, безцерковное — другой. Церковные люди будутъ готовиться къ срѣтенію Христа-Мздовоздаятеля, превыше всего заботясь о спасеніи своихъ душъ. Безцерковные люди будутъ строить мечтательные планы о новой Россіи, якобы вырастающей изъ пустого мѣста, образовавшагося послѣ исчезновенія Великой Россіи и Святой Руси.
Но развѣ окончательно упразднена другая возможность? Россія употребила свободу, ей данную Императорами и въ полной, предѣльно полной, мѣрѣ раскрывшуюся при Царѣ Николаѣ II, не на служеніе идеаламъ Святой Руси, а на свое ублаженіе въ образѣ самодовлѣющей Великой Россіи, забывшей о своемъ «внутреннемъ человѣкѣ» и отдавшейся всевозможнымъ соблазнамъ. Это привело къ катастрофѣ. Но развѣ не можетъ опамятоваться Россія?
+ + +
Двоица передъ нашимъ духовнымъ взоромъ стоитъ, являющая собою «симфоническое» единеніе Великой Россіи и Святой Руси: нашъ послѣдній Царь и о. Іоаннъ Кронштадтскій! Какъ полонъ былъ духа Святой Руси нашъ послѣдній Царь, возглавитель Великой Россіи на ея высшемъ подъемѣ! Какъ полонъ былъ сознанія высокой качественности и промыслительной единственности и неповторимости Великой Россіи о. Іоаннъ — воплощеніе Святой Руси, въ большей цѣлостности и полнотѣ непредставимое!
Промыслъ Божій какъ бы намѣренно оживляетъ передъ нами съ такой наглядностью наше прошлое въ ихъ лицѣ — тѣмъ творя образцы, совмѣстно опредѣляющіе наше идеальное будущее. Пойдетъ ли русскій народъ по этому открывающемуся передъ нимъ пути свѣта? Этого никто не скажетъ. Но за себя каждый и можетъ и долженъ отвѣтить на вопросъ, поставленный ему лицезрѣніемъ этой святой двоицы.
Способенъ ли ты, уразумѣвъ, до конца содержаніе нашего прошлаго, пронизаннаго идеей «во Христѣ спасенія» — стать на путь спасенія своей собственной души, тѣмъ являя себя истиннымъ сыномъ своей истинной Родины. Исторической Россіи? Или ты безнадежно побѣжденъ духомъ вѣка сего, въ его обращенности не къ Христу, а къ Антихристу? Эта дилемма, въ своей простотѣ, мало кѣмъ нынѣ ощущается: мы всѣ склонны осложнять нашу жизнь и наше отношеніе къ ней всякими привходящими соображеніями, являя тѣмъ свойство падшей человѣческой натуры, Христомъ двойственно обозначенное образами раба лѣниваго и раба лукаваго.
Но этотъ вопросъ, въ своей провиденціальной простотѣ, остается стоять передъ нами. Въ какой-то моментъ онъ созрѣетъ для каждаго въ своей категоричности. И отвѣтъ на него явится не только судомъ надъ собою какъ личности, избирающей путь спасенія или путь гибели, но явится и нѣкимъ слагаемымъ того общаго суда, который творится надъ собою всѣмъ міромъ. Это какъ бы участіе въ голосованіи всеобщемъ вопроса о томъ, «быть» ли дальше міру — чрезъ продленіе исторической жизни Россіи — или «не быть». Рѣшая свою личную судьбу, русскій человѣкъ въ неизмѣримо большей мѣрѣ, чѣмъ всякій другой, рѣшаетъ судьбу міра.
Чѣмъ непосредственно опредѣлилась катастрофа паденія Россіи? Объединеніемъ въ соблазнѣ ложно понятой свободы бывшей служилой и бывшей тяглой Россіи; правящего отбора и низовой массы; великодержавныхъ верховъ и патріархальныхъ низовъ; носителей идеи Великой Россіи и хранителей традиціи Святой Руси, — изъ какового объединенія и возникло губительное сліяніе интеллигентской революціи и крестьянскаго бунта. Чѣмъ можетъ быть обусловлено возстановленіе Россіи изъ бездны паденія? Объединеніемъ въ готовности употребить вожделѣнную свободу въ служеніе Богу этихъ же двухъ основныхъ силъ. Медленно шло высвобожденіе отъ этого служенія нашего правящаго отбора. Но прочно и глубоко внѣдрилось въ сознаніи его Отступленіе.
Чудо новаго рожденія нужно для его возвращенія истиннаго въ Церковь — а тѣмъ самымъ и обрѣтенья имъ новой способности служить Богу въ образѣ служенія истинной Россіи. Мгновенно произошло обращеніе сплошной массы русскаго народа на путь богопротивнаго бунта и ниспаденіе всей этой массы въ адъ кромѣшный совѣтской каторжной переплавки. Достигла ли своей цѣли эта переплавка? Не созрѣла ли въ душѣ народной покаянная готовность новаго обращенія къ Богу? Не способна ли душа народная такъ же мгновенно явить себя въ своей доброй качественности, какъ явила она себя сорокъ лѣтъ тому назадъ въ своей качественности злой?
Въ этомъ предположеніи благого мгновеннаго превращенія нѣтъ ничего невѣроятнаго. Безплодно гаданіе — какъ, въ какихъ формахъ оно можетъ произойти. Могъ ли кто загодя нарисовать хотя бы самую приблизительную картину того, какъ протекало высвобожденіе Россіи изъ Великой Смуты начала XVII вѣка?
Дѣло сейчасъ не въ мечтательныхъ гаданіяхъ о будущемъ, а въ отвѣтственномъ строеніи настоящаго, какъ оно Богомъ намъ дается — и въ личной нашей судьбѣ и въ дѣлахъ общественныхъ. И чѣмъ скромнѣе будутъ наши реальныя заданія, тѣмъ дѣйственнѣе будетъ наше соучастіе въ добромъ строительствѣ. Только бы намъ не терять изъ глазъ вождей нашихъ, въ нихъ видя единственный маякъ спасенія: святую двоицу послѣдняго Царя и всероссійскаго батюшки о. Іоанна. Они всему научатъ, если только не политическимъ резонерствомъ станетъ обращеніе къ нимъ, а останется молитвеннымъ обращеніемъ, покаянно-благодарнымъ. И въ этой святой двоицѣ снимается антитеза Великой Россіи и Святой Руси.
Нѣтъ другой возможности возстановленія исторической жизни міра, какъ чрезъ возстановленіе Исторической Россіи, въ слитности въ ней неразличимой Великой Россіи и Святой Руси. Встать къ новой жизни можетъ Великая Россія только, какъ Святая Русь. Вернуться можетъ къ исторической жизни Святая Русь только въ образѣ Великой Россіи. Какъ это произойдетъ — тому смогутъ научить только батюшка о. Іоаннъ и Царь-Мученикъ, если молитвенно-покаянно припадутъ къ нимъ русскіе люди. Въ двоякомъ грѣхѣ сокрушилась Россія: то были всероссійскій грѣхъ ума — революція, и всероссійскій грѣхъ воли — бунтъ. Преодолѣемъ мы этотъ двойной грѣхъ молитвами свергнутаго Царя-Мученика и пророка-молитвенника и чудотворца всероссійскаго, батюшки о. Іоанна — откроется намъ путь спасенія. Тщетно было бы искать его внѣ такого двойного покаянія. Только такъ живымъ настоящимъ сможетъ снова стать наше святое прошлое и творимо будетъ историческое наше будущее.
Архим. Константинъ
Источникъ: «Православный Путь». Церковно-богословско-философскій Ежегодникъ. Приложеніе къ журналу «Православная Русь» за 1958 годъ. — Jordanville: Типографія преп. Іова Почаевскаго. Holy Trinity Monastery, 1958. — С. 1–25.